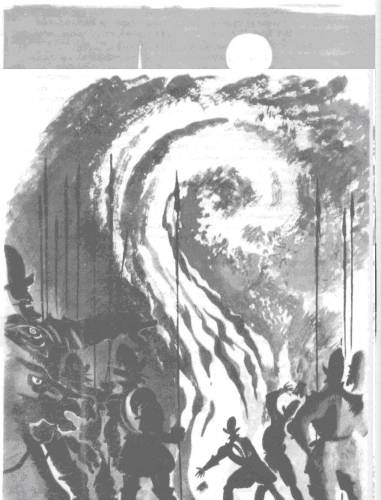|
Александр Шаров "Волшебники приходят к людям"
|
|
| Lita | Дата: Четверг, 29.09.2011, 06:12 | Сообщение # 1 |
 Друг
Группа: Администраторы
Сообщений: 9620
Награды: 179
Репутация: 195
Статус: Offline
| История сказок в повести Александра Шарова скачаной из Библиотеки.
Волшебники
ПРИХОДЯТ
к людям
КНИГА О CKAЗКЕ И
О СКАЗОЧНИКАХ
Глава первая
ТАЙНЫ СКАЗКИ
ПОЧЕМУ У СКАЗКИ СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ?
Теперь я снова, как в детстве, собираюсь поселиться в царстве сказки. Ведь я пишу книгу о сказочниках — эту самую.
Я жду знакомого гнома, но он все не приходит.
Наконец он появляется, ночью, когда погашен свет и луна заглядывает в окно. Вслед за ним мчится повозка — пустой лесной орех с книгами.
Гном, как и полагается быть гномам, очень маленький. Иногда кажется, что это просто пылинка в лунном луче.
От нетерпения даже не поздоровавшись, я спрашиваю:
— Сказочная страна существует?
— Конечно! — отвечает гном. — Тебе не следовало бы сомневаться в этом. Сказочная страна есть, и не одна, а десять сказочных стран или гораздо больше. В школе знаешь даже таблицу умножения, но в сто лет цифры забываются. Есть Гномланд, Эльфия, Страна Северных Троллей, Страна Ивана-царевича...
— Где же они?
— Не знаю, как понятно объяснить... — озабоченно отвечает гном.
Сын вечером занимался географией, и на столе остался глобус.
— Что это? — спрашивает гном.
— Земля.
— Ты уверен?
Гном ловко вспрыгивает на глобус.
— Где я? — тоненьким голосом спрашивает он.
— В Тихом океане.
— Почему же океан сухой? Я не знаю, что ответить.
В свете луны движется черная точка.
— Где я? — снова издалека доносится голос гнома.
— На вершине Кордильер.
— Твоя Земля не нравится мне. Они отвратительны — сухие океаны и плоские горы. Они такие скучные, что я уезжаю и притом навсегда.
По лунному лучу — вверх, вверх — мчится пылинка.
Не следует очень пугаться, потому что «навсегда» — любимое словечко гнома, и не так уж много оно означает. «Як тебе пришел навсегда», — сказал он давным-давно, когда появился первый раз. Мне тогда было четыре года. Сказал, а наутро исчез.
Но потом он все-таки вернулся.
После встреч с гномом всегда крепко засыпаешь, и кажется, что он приходил во сне.
... Наутро я отправился в Главную библиотеку.
— Будьте настолько добры, — сказал я другу, работающему там, — дайте все книги сказок и все книги о сказочниках.
— Все? — переспросил он, почему-то усмехаясь.
— Разумеется!
Он круто повернулся и убежал; через минуту он уже поднимался по стремянке к верхней полке.
А я, чтобы не терять времени, решил пройтись по залам библиотеки.
Было раннее утро, и читатели еще не появились.
Тут были залы для академиков, для профессоров — словом, для тех, кто знает всё или почти всё на свете, — и для обыкновенных людей. На столах дремали лампы — на одной ноге, как аисты, только не белые, а зеленые.
Вернувшись, я сел у длинного стола.
Двери книгохранилища открылись. Оттуда выходили библиотекари в синих халатах, неся на согнутых руках книги. Библиотекари были в войлочных туфлях и двигались почти бесшумно. Они направились ко мне.
Скоро книг стало так много, что я очутился как бы в ущелье. Подняв голову, я с трудом разглядел у потолка две горные вершины.
— Пожалуйста, не надо больше! — взмолился я.
Шуршанье туфель прекратилось. От теней книг сгущалась темнота. Я повернул выключатель. Лампа взмахнула зеленым крылом и засветилась. У стола стояли два старика в синих халатах.
— Ученый-Библиограф, — сказал мой друг, представляя своего товарища.
— О чем вы задумались? — участливо спросил Библиограф.
— Разве что мой праправнук дочитает все эти книги и к глубокой старости сможет приняться за работу.
— А если написать только о самых любимых сказках, и для начала о сказках нашей страны; их ведь знаешь с детства, — сказал Библиограф.
— Правильно, — подтвердил Библиотекарь. — Но прежде надо рассказать о тайнах сказки...
Я остался один.
Это было давно, но я хорошо помню красивое название книги, первой бросившейся в глаза, «Золотая ветвь» Д. Фрезера.
Тут были книги, где рассказывалось о сказочниках и о собирателях сказок, путешествовавших через пустыни, тайгу, океаны, чтобы вернуться домой с новыми записями.
Одному такому ученому на балу, где он случайно очутился, красавица принцесса сказала:
— Фи, какой на вас истрепанный воротничок!
— Это потому, что я все истратил в дороге и у меня не осталось ни гроша, — рассеянно ответил ученый. Помолчал, а потом радостно докончил: — Но вы подали прекрасную мысль, принцесса! Отнесу-ка я негодный воротничок на бумажную фабрику. Из тряпок получается отличная бумага. И напечатаю я на этой бумаге новую сказку, которую привез из Африки.
— И всё? — Принцесса презрительно скривила губки. ,
— Нет, не все. Какая-нибудь девочка спокойно уснет под мою сказку.
Про себя ученый подумал: «Девочка уж наверное не вырастет такой злюкой, как вы, ваше высочество».
Ученые, их называют фольклористами, объехали весь мир и узнали, что на земле есть народы, не умеющие сеять хлеб и плавить металл, но нет ни одного, где не умели бы рассказывать сказки.
В Африке, в пустыне Калахари, они встретили людей маленьких как подростки, быстрых, как стрела, способных через метровую толщу песка ощутить запах воды. Завоеватели назвали этот народ бушменами, то есть обитателями буша — пустынных кустарников; маленькие люди не строят хижин, а живут под открытым небом.
Бушмены — собиратели, они кормятся тем, что подарит скупая почва: корнями растений, личинками насекомых. Они не имеют другого достояния, кроме сказок и горшочков с красками из соков растений, которые всегда носят при себе. Предки нынешних бушменов покрыли скалы каменистой пустыни изображениями зверей и таинственных красавиц — бушменских фей, так что тысячу лет назад, задолго до открытия книгопечатания, когда даже принцы не получали в подарок книжек с картинками, бушмены жили как бы в такой книжке; бесконечная книга — ведь каждое поколение дополняло ее новыми страницами.
На одной из скал Калахари с неведомых времен красуется чудесное изображение — «девушка в белом». И есть у бушменов сказка о том, как появились на небе звезды. В давние времена жила очень красивая бушменка. Взяла она однажды золы из костра и забросила ее на небо. Зола рассыпалась там, и пролегла звездная дорога. С тех пор звездная дорога освещает ночью землю мягким светом, чтобы люди возвращались не в полной темноте и находили свое жилище. Но утром звезды блекнут и удаляются, потому что по небу движется солнце. Так солнце и звездная дорога ходят друг за другом.
Смотришь на «девушку в белом», и думается, что это именно она смело швырнула в небо золу от костра и создала звезды, чтобы люди возвращались домой не в полной темноте.
Может представиться, что бушмены — счастливые люди, но на самом деле судьба их невообразимо горька. Они гибли и гибнут от пуль завоевателей, от того, что их загоняют в глубину пустыни, где нет даже корней и личинок.
В племени зулу в Южной Африке рассказывают такую сказку.
В день, когда зверям раздавали хвосты, небо заволокли тучи и пошел сильный дождь. Но звери отправились за хвостами, -лишь заяц отказался идти и обращался ко всем, проходящим мимо:
— О родные мои! Принесите, пожалуйста, хвост и на мою долю. Идет дождь, и я не могу выйти из норы.
Вот что рассказывают о зайце. И если люди не хотят работать в дождь, им напоминают эту историю.
Записав сказку, ученый-фольклорист спросил рассказчика:
— Откуда вы узнали эту историю?
— От бабушки.
— А она откуда взяла ее?
— От своей бабушки.
— Ну, а самая древняя бабушка?
— Ей, должно быть, рассказал сам заяц, — улыбнулся рассказчик.
Сам заяц... И почему дикая кошка так дика, могла рассказать только дикая кошка — кто еще?!
А о том, как у верблюда появился горб, давным-давно, когда люди понимали зверей, а звери — людей, рассказал верблюд?!
... Шуршат туфли библиотечных работников и страницы книг.
Сейчас залы полны, и шелест доносится отовсюду, как шорох листьев в лесу. Это тысячи читателей по страницам, как по ступенькам лестниц, поднимаются к летящим птицам, к летящим облакам, к иным населенным мирам, к мчащимся сквозь бесконечность звездам или опускаются в раскаленные недра земли, проникают внутрь атома. Каждый идет своей дорогой — на край земли, в глубь человеческих сердец, в древние века, — как я иду, ищу дорогу к сказкам.
Жил в прошлом веке в Северной Америке великий поэт Генри Уодсуорт — Лонгфелло, то есть Длинный парень, так прозвали его друзья, а потом под этим именем узнал весь мир. Годами бродил Длинный парень по стране оджибуэев, доокотов и ирокезов. Он верил, что, записав и рассказав всем белым легенды индейцев, он заставит завоевателей прекратить зверское уничтожение краснокожих.
— Добро и красота незримо разлиты в мире, — говорил Генри Лонгфелло.
Он и собирал по каплям добро и-красоту в индейских преданиях об учителе, посланном небом людям, чтобы расчистить реки и леса, помирить воюющие племена, научить их мирным искусствам.
Был когда-то у ирокезов мудрый вождь Гайавата. Его имя перешло в легенды. Из этих сказаний родилась «Песнь о Гайавате», известная теперь всем. Помните, как начинается, поэма?
Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины...
Я скажу вам, я отвечу:
«От лесов, равнин пустынных,
От озер Страны Полночной...
С гор и тундр, с болотных топей,
Где среди осоки бродит
Цапля сизая, Шух-шух-га...»
Так вот откуда сказки и легенды. От сизой цапли Шух-шух-ги, голубя Омими, от северных озер и тундр, от лесов и прерий. Это говорит сказочник. А ученый? Ученый ответит по-другому:
— Первобытному человеку представляется, что всё окружающее его — деревья, травы, птицы, звери — думает и чувствует, как он сам!
Только ли первобытному человеку? У кого из нас не бывает счастливых мгновений, когда чудится — еще немного, стоит прислушаться, вглядеться, и ты поймешь, что трубят лебеди и о чем шепчутся деревья.
Прочитав одну из книг Аксакова, Тургенев сказал:
— Мне, право, показалось, что лучше тетерева жить невозможно. .. Если б тетерев мог рассказать о себе, он бы, я в этом уверен, ни слова не прибавил к тому, что о нем поведал автор.
Когда человек с любовью наблюдает окружающий мир, он отдает ему частицу души. Так возникают сказки, где звери, деревья, травы и цветы думают, разговаривают, чувствуют.
— Ну, а Баба-Яга, Кощей Бессмертный? Кто, когда и где мог увидеть их?
Что ответить на это?
Никто не бывал в избушке на курьих ножках просто потому, что такой избушки на свете не существует и не существовало, и не может существовать, как не существуют и не могут существовать Яга, Кощей Бессмертный да и Мальчик с пальчик.
Незаметно подошел Ученый-Библиограф.
— Простите, но, кажется, вы поторопились, — тихо проговорил он. — Трудно разгадывать чужие мысли, но я взглянул на вас, и показалось, что вам скучно. Так скучно бывает, если поспешишь с ответом, я знаю по опыту. Когда представится, что все известно и не о чем думать.
Может быть, я действительно поторопился?
Я раскрываю книгу и перечитываю рассказ об ученом, прожившем много лет в селении одного охотничьего племени.
Когда в племени стали относиться к ученому совсем как к своему, он узнал о существовании обряда посвящения. Обряд вначале показался странным, а потом и странным и страшным.
Мальчику исполнялось двенадцать лет, и тогда, в глухую ночь, из дремучего леса, окружающего селение, крадучись выходили чудовища — со звериными головами, в звериных шкурах, — похищали мальчика и исчезали в лесу.
Защищала ли сына мать?
Обычаи племени под страхом смерти запрещали ей удерживать ребенка около себя или идти по его следам.
И отец не вступался за сына. Иногда он даже сам отводил ребенка в лес, отдавая его в руки людей в звериных масках: так повелевал обряд.
«Люди-звери» тащили не помнящего себя от ужаса мальчика. У него кружилась голова от усталости, страха, ночной тьмы. Временами он терял сознание, но его, полубесчувственного, тащили и тащили сквозь колючие кустарники, в кровь разрывающие кожу. И вот перед ним возникало строение с входом, похожим на крокодилью пасть.
Мальчик с трудом открывал глаза, и казалось ему, что сами джунгли под рыканье львов кружатся в дьявольской пляске и вслед за ними поворачивается колдовская лесная хижина.
Между рядами крокодильих зубов мальчика протаскивали внутрь хижины, где ребенка встречал жрец в маске, изображающей смерть. Маска, возможно, делала его похожим на Кощея, каким мы представляем себе его сейчас.
«Далеко, далеко...» — говорится в сказке. Да и мальчику казалось, что он очутился за тридевять земель от дома.
Хотелось пить, но ему давали не воду, а отвар из ядовитых растений, вызывающих бред. Он снова и снова терял сознание и, пробуждаясь, с каждым разом все меньше помнил свое детство, близких, даже мать.
На полу пылал костер, и безжалостные руки толкали посвящаемого в пламя, пока обожженная кожа не покрывалась пузырями. Так начинался обряд посвящения, длившийся много дней. Жестокий обряд, знаменующий конец одной жизни — детской — и начало не знающей жалости взрослой жизни охотника и воина.
Где же это происходило? В Австралии, Африке, Океании?
И там, и там, и там! — отвечают этнографы, побывавшие в самых отдаленных уголках земли, где до наших дней, огражденные джунглями, или океаном, или льдами от остального мира, обитают первобытные охотничьи племена.
Конечно, совсем не у всех первобытных людей обряд посвящения был таким жестоким; не у всех, но у многих племен.
Часто мальчика уводили из селения скрытно. Но порой это совершалось при свете дня, и родные провожали его, как на смерть.
Вероятно, с самого рождения сына мать думала о том, что неотвратимо придет страшный день, когда ее навсегда разлучат с ним.
Табу, грозящее гибелью нарушителю тайны, скрывало обряд. И все-таки отрывочные рассказы доходили до поселка; слух матери должен был жадно ловить их. Может быть, так, из поколения в поколение, считают некоторые ученые, рождались волшебные сказки о Кощее и Бабе-Яге, родной сестре смерти.
В бессонные ночи рассказы оживали. Человеческое воображение не может жить без надежды, и в то, что мать узнавала, сами собой вплетались волшебные образы: «Мой мальчик уйдет далеко, его уведут. Сама смерть встретит его в лесной хижине и разожжет дрова в очаге, чтобы сварить моего ребенка, но он перехитрит смерть. Добрая волшебница заранее сунет ему горсть камушков в карман; незаметно бросая их, он отыщет дорогу домой».
Обряд посвящения должен был выжечь все доброе. Воображение матери могло и, как кажется мне, должно было чудесно преображать картины обряда.
... Сказка существовала, возникала, помнилась всегда, даже в самые трудные времена. И всегда будет существовать. Великий немецкий поэт Фридрих Шиллер писал, что только человек умеет играть и только тогда он вполне человек, когда играет. Эта мысль очень нравилась замечательному советскому педагогу Василию Александровичу Сухомлинскому. Перефразируя ее, он как-то сказал, что есть нечто сестрински близкое между сказкой и игрой, что только человек умеет создавать сказки; и, может быть, он больше всего человек, именно когда сказку слушает, сочиняет или вспоминает.
Для Сухомлинского такая оценка сказки не была случайной. Она в основе его педагогических убеждений. Когда, тяжело раненный, он вернулся с войны в родное село, к нему, учителю, пришли ребята, перед глазами которых в годы фашистской оккупации раскрылись такие картины горя, жестокости, предательства, что многие из них забыли — а маленькие не успели усвоить — истинное значение основных слов и нравственных понятий: правда, любовь, вера, справедливость, надежда; понятий и слов, без глубокого и твердого — на всю жизнь — постижения которых человек не будет и не останется человеком.
День за днем, с утра и до вечера он проводил с этими душевно искалеченными шестилетними и семилетними детьми, уводил их в поле, к реке, в лес, в открытую им вместе с детьми таинственную пещеру и вначале просто (но это совсем не просто!) учил ребят смотреть на мир, даже не умом, а сердцем воспринимать гармонию и красоту природы. Красота, говорил Достоевский, спасет мир, она вернейший союзник добра и правды, как ложь неразделима с уродством жестокости и ненависти, порождает их; в этом был убежден и Сухомлинский.
Он учил детей смотреть на пробуждающийся мир и рассказывал им сказки, где, как всегда в сказке, справедливость побеждала; а в это время на их глазах утренний свет побеждал ночь.
Слова в его сказках словно сами поверяли детям свой вечный, не искаженный временными обстоятельствами смысл, одаряли их частицей народной мудрости. И постепенно, один за другим, дети сами начали рассказывать сказки, где добро и красота тоже побеждали. Им казалось, что они не выдумывают сказки, а вспоминают; казалось, будто они просыпаются от долгого и тяжелого сна. В этих сказках, с явлением их, дети действительно оживали, становились такими, каким должен быть ребенок.
Тот, кому доведется прочитать записанные Сухомлинским сказки шестилетних и семилетних детей, увидит, сколько мудрости, понимания и добра можно пробудить даже в раненой детской душе.
Да, сказки создавались и создаются не в какую-нибудь одну историческую эпоху, а всегда. Пушкин называл их «первоначальными играми человеческого духа».
Но вернемся к первобытному охотничьему племени, о котором велся рассказ. Жестокий обряд посвящения возник потому, что племя, защищаясь от хищных зверей и враждебных племен, добывая себе пищу в суровом первобытном лесу, должно было иметь охотников и воинов, не знающих страха. Жрецам представлялось, что нежность и любовь в сердце человека соперничают с бесстрашием воина; значит, надо как можно раньше уничтожить у человека эти чувства. Жрецы и вожди первобытных охотничьих племен не знали того, чему нас, их отдаленных потомков, научила трудная и кровавая история человечества: только люди с живой душой, идущие на бой во имя добра и справедливости, способны на истинный подвиг. Самопожертвование любви и самопожертвование на поле сражения рождаются из одного источника, питают друг друга.
Фашисты хотели воспитать поколения не знающих сострадания и жалости, презирающих человека бездушных зверей. Но в конце концов, после долгих лет борьбы, гибели миллионов людей, звериные фашистские армии ведь были побеждены.
... Матери первыми, еще в далекие первобытные времена, должны были понять непобедимую силу любви и поверить в нее. Спасая сказкой своих детей от отчаяния и безверия, они сберегли честь и душу племени, душу человечества.
Шли века. Охотники научились обрабатывать землю, выращивать полезные растения, а земледельцу необходима не жестокость, а любовь к природе.
Вспомним первые песни «Гайаваты». Мэджекивис отправляется
в царство Северного Ветра на смертный поединок с великим медведем Мише-Моквой, перед которым трепещут все народы. Победив Мише-Мокву, он восклицает:
«Трус! Давно уже друг с другом Племена враждуют наши, Но теперь ты убедился, Кто бесстрашней и сильнее.. . Если б ты меня осилил, Я б не крикнул умирая, Ты же хнычешь предо мною И свое позоришь племя, Как трусливая старуха...»
Мэджекивис не знает жалости и к поверженному, молящему о пощаде.
С давних пор люди убедились, что жестокость, овладев вначале лишь одним уголком сознания, постепенно подчиняет себе всего человека. Мэджекивис так же безжалостен к близким, как и к врагам. Вот он возвращается домой, покоряет прекрасную Венону, а потом коварно бросает ее.
«Недолго после билось сердце нежное Веноны: умерла она в печали» — рассказывает легенда.
Мэджекивис — герой охотников и воинов, тех, кого образ жизни, обряды и обычаи племени заставляли иногда забыть родной дом и родную семью.
Гайавата — сын Веноны и Мэджекивиса — совсем иной. Ни силой, ни храбростью он не уступает отцу и, встретившись с ним, чтобы отомстить за смерть Веноны, в честном бою побеждает Мэджеки-вийа. Это низкая ложь, будто храбрость и жестокость — братья, напоминает легенда. Гайавата стремится к справедливости, а не к убийству.
Мудрая его бабка Накомис воспитала в нем любовь ко всему живому на земле. Когда появлялась радуга, Накомис рассказывала внуку сказку о том, что это цветы, увянув на земле, снова расцветают на небе. Она научила его понимать говор птиц. Научила вечерней песне, которую любит сверчок Ва-ва-тэйзи:
Крошка, огненная мушка,
Крошка, белый огонечек!
Потанцуй еще немножко,
Посвети мне, попрыгунья,
Белой искоркой своею.
Гайавата вырос и возмужал. Он молит небо
Не о ловкости в охоте,
Не о славе и победах,
Но о счастии, о благе
Всех племен и всех народов.
Мольба Гайаваты услышана, и к вигваму его подходит стройный юноша Мондамин. Три дня борется Мондамин, посланец небес, с Гайаватой и, испытав его в благородном единоборстве, говорит:
«Завтра ты меня поборешь;
Приготовь тогда мне ложе
Так, чтоб мог весенний дождик
Освежать меня, а солнце —
Согревать до самой ночи.
Мой наряд зелено-желтый,
Головной убор из перьев
Оборви с меня ты смело,
Схорони меня и землю
Разровняй и сделай мягкой».
Мондамин в его зелено-желтом уборе — это маис, это хлеб, мирная жизнь без убийств. Это новая эпоха в жизни человечества, с ее наступлением должны постепенно забыться такие обычаи, как обряд посвящения.
Сказка существовала и когда обряд посвящения был одним из законов жизни, а жалость, нежность, материнская любовь казались, вероятно, многим достойными осмеяния или даже презрения. В те жестокие времена она существовала скрытно именно для того, чтобы сохранить самые прекрасные человеческие чувства. Существовала как тайна между матерью и ее детьми. Чтобы у каждого человека, и прежде всего у ребенка, всегда оставалась надежда.
Ее сочиняли и рассказывали, повинуясь тому же вечному и непреоборимому порыву, с каким сказочная бушменская девушка забросила на небо золу от костра, чтобы возникли звезды, освещающие дорогу ночью.
Вот почему у сказки чаще всего счастливый конец.

Всегда рядом.
|
| |
| |
| Lita | Дата: Четверг, 29.09.2011, 06:19 | Сообщение # 2 |
 Друг
Группа: Администраторы
Сообщений: 9620
Награды: 179
Репутация: 195
Статус: Offline
| Глава вторая
СЕРГЕИ ТИМОФЕЕВИЧ АКСАКОВ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
В который раз я перечитываю чудесную старую сказку «Аленький цветочек», и каждый раз чувство, будто не только читаешь, но и слышишь ее. Это потому, вероятно, что слова в сказке особенные — задумчивые и протяжные, как в песне.
Помните? Собрался купец за море в тридевятое царство, в тридесятое государство и говорит дочерям:
— Коли вы будете жить честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, какие сами захотите.
Старшая дочь попросила золотой венец из каменьев самоцветных, чтобы было от них светло в темную ночь, как среди дня белого.
— Привези мне тувалет из хрусталю восточного, цельного, беспорочного, чтоб, глядясь в него, я не старилась и красота моя девичья прибавлялася, — попросила средняя дочь.
А когда настал черед младшей дочери, она поклонилась отцу в ноги и попросила привезти ей аленький цветочек, которого не было бы краше на белом свете.
— Ну, задала ты мне работу потяжеле сестриных, — сказал отец меньшой дочери. — Аленький цветочек не хитро найти, да как же узнать, что краше его нет на белом свете? ..
Так начинается долгая эта сказка. Много раз мальчиком Сергей Аксаков слушал ее, гостя в имении деда.
Шел снег, будто небеса рассыпались снежным пухом и наполнили воздух движением и поразительной тишиной. Начинались длинные зимние сумерки. Ключница Пелагея пряла и под жужжанье веретена вела рассказ.
Сама жизнь этой удивительной женщины походила на сказку, только очень нерадостную. Девушкой она вместе с отцом убежала из крепостной неволи от помещика, известного своей жестокостью, — из Оренбургских степей «за тридевять земель» — в Астрахань.
В низовья Волги стекались беглые крепостные и вольные казаки со всех концов России, приезжали купцы из Персии и Турции. Множество сказок жило в пестром скоплении выходцев из разных стран и разных губерний и переходило из уст в уста.
Однажды Пелагея проведала стороной, что хозяина ее уже нет на свете, а она по наследству перешла во владение Аксакова — помещика,
как говорили, «строгого, но справедливого», и вернулась на родину: «Будь что будет».
Старик Аксаков «помиловал» Пелагею, а увидев ее «досужество», способность ко всякому мастерству, определил в барский дом ключницей.
В те далекие времена у царей, знатных вельмож, а нередко и у обычных помещиков были свои «бахари» — рассказчики сказок, — они заменяли книги. Старик Аксаков не спал по ночам, болел; Пела-гея стала в его доме не только ключницей, но и бахаркой, ночи напролет неутомимо рассказывающей сказки: русская Шехеразада.
Наматывается на веретено, тянется, тянется нить, и сквозь надвигающуюся ночь, как сквозь полную горя жизнь рассказчицы, светящейся нитью прядется сказка. О том, как купец нашел в зачарованном саду среди дремучего леса аленький цветочек, сорвал его, но, откуда ни возьмись, появилось чудище — страшное, мохнатое, — и должен купец погибнуть, если одна из дочерей не пойдет жить к чудищу.
Старшая дочь красуется в самоцветном венце — она не пожертвует собой. И средняя дочь глядит не наглядится на себя в хрустальное зеркало — что ей до отца. Одна лишь младшая, любимая дочь, добрая и красивая, сразу решается.
Меньшая дочь очутилась во дворце, среди зачарованного сада, но все не видит хозяина — мохнатое чудище, — только чувствует нежность его, заботу и любовь. Ласка пробуждает сердце девушки, и она неотступно просит чудище показаться ей, а увидев его, находит силы сквозь страшный облик разглядеть и навеки полюбить добрую душу.
Да минует тебя чаша сия — смотреть на мир равнодушными глазами, отвечающими только на внешнюю красоту, — повторяет и повторяет сказка.
И вот уже чудесный перстень переносит девушку домой, чтобы она могла попрощаться с отцом и сестрами.
— Коли ты ровно через три дня и три ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете, и умру я тою же минутою, по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу, — сказало на прощание чудище.
Сестры позавидовали девушке и перевели стрелки часов так, чтобы они опаздывали на полчаса. Возвратилась она, а чудище лежит бездыханное, прижав к груди аленький цветочек.
Помутились очи у девушки, подкосились ноги, пала она на колени, обняла безобразную голову и взмолилась:
— Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя, как жениха желанного!..
Только прозвучали эти слова, затряслась земля от грома великого, и девушка упала без памяти. А очнувшись, увидела себя на золотом престоле. Рядом с ней принц молодой, красавец писаный...
Злая волшебница украла принца совсем маленьким и наложила заклятье:
— Жить ему в таковом виде, безобразном и противном, пока не найдется девушка, которая полюбит его в образе страшилища и пожелает быть его женой. Только тогда покончится колдовство.
Вот и покончилось оно.
Никто и ничто не победит злую колдунью, кроме любви, если она истинная и самоотверженная.
Сказка. Чего не выдумают сказочники... Но сказка не просто выдумка. Иначе почему еще с давних веков и в разных странах рождались сказки, такие близкие по замыслу и сюжету к «Аленькому цветочку»?
Сергей Аксаков уедет в Казань, поступит в гимназию, развернет вечером книгу «Детское училище», прочитает там сказку «Красавица и зверь», и сразу вспомнится «Аленький цветочек».
Уже после смерти Аксакова Александр Николаевич Афанасьев опубликует замечательное собрание русских народных сказок, и там окажутся две сказки о Финисте — ясном соколе: одна записана в Вологодской губернии, за тысячи верст от Оренбургских степей, вторая — на другом конце страны. И в этих сказках нельзя не признать «Аленький цветочек». Ничего по сути не меняется от того, что дочь купецкая просит привезти ей в подарок не цветок, а перышко Фи-ниста — ясна сокола. Мечтает она тоже о том, что не продается, что для корыстолюбца лишено ценности.
Перышко Финиста — ясна сокола превращается в красавца жениха. Сестры дознались, что милый друг их младшей сестрицы, обернувшись соколом, улетает гулять в чистое поле, и понатыкали острых ножей и иголок на окне. Ночью сокол прилетел, бился, бился — не смог попасть в горницу, только крылья поранил.
— Прощай, красна девица! — сказал он, улетая. — Если вздумаешь искать меня, то ищи за тридевять земель, в тридесятом царстве. Прежде три пары башмаков железных истопчешь, три посоха чугунных изломаешь, три просвиры каменных изгложешь, чем найдешь меня, добра молодца!
И девушка идет за любимым, пусть хоть в железных башмаках, с чугунным посохом.
Об одном сказки — о чудесной силе девичьей любви. И так схожи герои, отношения их друг к другу; но, если подумать, совсем они разные. Могло ли чудищу из «Аленького цветочка» хоть на секунду прийти в голову жестоко испытывать свою красну девицу? Он бы на руках ее носил, как бы милая ножек не замочила в росе. Он — само добро, ласка, доверчивость.
... Следуя за сказкой, мы, будто владея тем волшебным перстнем, переносимся из Астрахани в Оренбургскую губернию, оттуда на север в Вологодчину и, странствуя уже не в пространстве, а во времени, — во второй век нашей эры, когда жил знаменитый писатель Луций Апулей.
Где, от кого услышал он сказку «Амур и Психея»? В Африке, в одной из тамошних римских колоний, где он родился, или в Риме, столице тогдашнего мира?
Давным-давно, далеко-далеко... Читаешь Апулея, и сквозь вереницу веков в повествовании, где действуют не простые, обычные люди, как чаще всего бывает в русских сказках, а языческие боги и богини, все явственнее слышится тот же «Аленький цветочек».
В некотором царстве жили царь и царица. Младшая из трех их дочерей была так прекрасна, что люди цепенели от изумления и воздавали ей божеские почести, точно самой богине Венере, — торжественной латынью повествует Апулей; мало кто из писателей древности умел, как он, становиться то величественным, то нежным, то насмешливым и язвительным.
Эта девушка была так хороша, что богиня красоты Венера позавидовала ее славе. Разгневанная, она позвала своего сына Амура, юного бога любви, и повелела ему отдать Психею в жены человеку столь незаметному, чтобы во всем мире не было равного по ничтожеству.
Но Амур не выполнил приказа матери. Он похитил Психею и поселил во дворце, где к ее услугам было все, что только можно пожелать.
Лишь одному священному запрету должна была подчиняться Психея: она не видела тех, кто прислуживал ей, не знала и своего властелина — он прилетал после заката и исчезал задолго до рассвета; она только слышала голоса невидимок.
Словно из наших дремучих лесов переносится дворец с его «невидимыми голосами» на теплый берег италийского моря и на небо к наивным языческим богам. И так же, как в нашей сказке, завистливые старшие сестры пытаются разрушить счастье младшей.
— Твой властелин — отвратительный змей, — нашептывают сестры любопытной и слишком доверчивой Психее, пока она не решается тайно зажечь ночью светильник.
Не уродливого змея, а самого прекрасного Амура видит Психея и
горько раскаивается в том, что осмелилась нарушить запрет; но поздно — Амур покидает ее.
Неистовый гнев Венеры обрушивается на несчастную.
— Служанка, — презрительно говорит Психее Венера, высыпав на пол гору зерен пшеницы, ячменя, проса, мака, гороха и чечевицы, — ты так безобразна, что только рабской угодливостью можешь заслужить пищу и кров. Вот я и хочу испытать, годна ли ты хоть к чему-нибудь. Разбери до заката солнца по зернышку эту кучу семян.
... Тот, кто любит сказки, непременно заметил, что среди сказочных тайн есть и такая: к героям сказки — мальчикам с пальчик, когда им грозит гибель в избушке Бабы-Яги, к влюбленным, когда их пытаются разлучить злые силы, — в самый трудный момент на помощь приходят не только феи и волшебники, но и деревья, травы, цветы, птицы, звери.
Деревья, птицы и звери воюют на стороне добра, и в этом нет ничего удивительного: ведь и добрые люди всегда защищают живое.
Маленький храбрый муравей кликнул своих братьев:
— Пожалейте, проворные питомцы всеобщей матери-земли, милую девушку — она в опасности, бегите скорее на помощь!
Волна за волной спешат муравьи и, схватив каждый по зернышку, раскладывают их — горошину к горошине, маковинку к маковинке.
И муравей может быть сильнее Венеры, если богами овладевает низкое чувство мести, а он отстаивает справедливость, — из тьмы веков с еле заметной усмешкой напоминает богам и тем людям, которые возомнили себя богами, мудрый римлянин Луций Апулей.
Венера придумывает для Психеи новую труднейшую задачу:
— Видишь на той неприступной скале расселину, откуда вырываются темные волны родника? Из этого родника ты должна зачерпнуть кружку холодной воды и принести ее мне.
Никому из смертных не дано было напиться воды из гибельного источника. Даже богам, самому Юпитеру, страшен родник, питающий реку мертвых — Стикс. Но гордый орел явился на помощь Психее. Схватив из ее рук кружку, он летит к цели, избегая зубов грозных драконов, стерегущих источник.
Через все испытания проходит Психея и становится счастливой женой Амура. Юпитер, могущественнейший из богов, приказывает быстрокрылому Меркурию привести Психею в небесные чертоги. И когда красавица предстает перед Юпитером, он протягивает ей кубок волшебной амброзии:
— Выпей это, Психея, и будь бессмертна, и да не уклоняется Амур от твоих объятий, и да будет вечен ваш союз.
И героиня «Аленького цветочка» так же преодолевает все препятствия силой великой своей любви.
Так же — и по-другому. Она кажется старшей подругой юной и легкомысленной римлянки, хоть и родилась на века позже. В ней мудрость много пережившего человека. Недаром эта сказка была рассказана крепостной ключницей Пелагеей после стольких испытаний, перенесенных ею, и написана Аксаковым в старости, перед самым концом жизни.
... Честной купец дал свое благословенье дочери меньшой, любимой и молодому принцу-королевичу. И поздравили жениха с невестою сестры старшие, завистные, и все слуги верные, бояре великие, и кавалеры ратные и, нимало не медля, принялись веселым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать.
Всё так же — и всё по-другому. Тут нет римского великолепия, нет богов и волшебного кубка амброзии. Но и тут бессмертие становится уделом красной девицы. Она получает его силой творческой памяти народа и талантов сказителя и писателя; ведь вот сколько лет прошло с 1858 года, когда сказка впервые была напечатана, сколько поколений сменилось, а «Аленький цветочек» так же волнует душу.
Сказки, сходные по сюжету и по мысли, появляются иногда независимо друг от друга, в разных странах, потому что во всем мире есть девушки, любящие так же беззаветно, как героини сказок.
И сказки не забываются, а живут столетия, даже тысячелетия, ни на день не старея, потому что не исчезает, и не стареет, и никогда не исчезнет один из самых прекрасных человеческих талантов — способность самоотверженно любить.

Всегда рядом.
|
| |
| |
| Lita | Дата: Четверг, 29.09.2011, 06:20 | Сообщение # 3 |
 Друг
Группа: Администраторы
Сообщений: 9620
Награды: 179
Репутация: 195
Статус: Offline
| ПЕРВЫЕ ГОДЫ
В день шестилетия своей младшей любимой внучки Оли Сергей Тимофеевич Аксаков в поздравительных стихах обещал написать для нее к следующему дню рождения маленькую книжку: «Про весну младую, про цветы полей, про малюток птичек, про гнездо яичек, бабочек красивых...»
Так была задумана одна из самых замечательных книг о детстве — «Детские годы Багрова-внука». Книга получилась очень большая, и работа над ней заняла не один год, а целых четыре.
Только начало жизни описано в «Детских годах». Восьми лет Сергей Аксаков уехал в Казань, поступил в гимназию, и с той поры числил уже не детство свое, а отрочество.
Вспомните, как второклассника принимают в октябрята. Его просят рассказать о себе. Мальчик говорит, кем работают отец и мать, сообщает, когда он родился, и смущенно замолкает: «Вот и все». Учительница и ребята улыбаются, понимая, что больше рассказывать не о чем. Какие «события» в жизни восьмилетнего человека?! Но перечитайте «Детские годы». Когда читаешь эту книгу, и собственное твое детство непременно всплывает из прежде тебе самому неведомых тайников памяти — всплывает, оживает... Перечитайте эту мудрую повесть, подумайте, и вы поймете, что одно событие, и, может быть, важнейшее во всей жизни, — за плечами восьмилетнего ребенка: он стал человеком. Что может быть значительнее? Как становятся человеком? Об этом и рассказывает книга Аксакова.
Взгляните на пойменный луг в апреле, когда схлынуло половодье. Черная безжизненная земля — больше ничего. Но мы знаем, что в земле посеялись семена множества трав, полевых цветов и даже деревьев. Настанет срок, пригреет майское солнце, и, как сказал поэт Багрицкий, «пойдет в наступленье свирепая зелень»; свирепая не потому, что злая, а потому, что стремящаяся к свету вопреки всем препонам.
Так и жизнь восьмилетнего человека взгляду постороннего наблюдателя, да и самому внутреннему взгляду ребенка может показаться однообразным полем; а на деле она переполнена: уже все главное посеяно. Год за годом это главное будет просыпаться, всходить, обнаруживать себя.
Жизнь Сергея Аксакова началась тяжелой болезнью, которая продолжалась так долго, что знакомые говорили матери Сергея:
— Перестань мучить дитя; ведь уж и доктора и священник сказали, что он не жилец. Покорись воле божией...
Может быть, именно тяжелая болезнь сделала так, что первым и самым сильным чувством, зародившимся в Сережиной душе, была доходившая до болезненной остроты жалость ко всему страдающему и слабому.
Вспоминая об этом в старости, Аксаков писал, что чувство жалости прежде всего обратилось на маленькую сестрицу: «Я не мог видеть и слышать ее слез или крика и сейчас начинал сам плакать».
Мать не покорялась злой воле природы. Просыпаясь среди ночи или приходя в сознание после обморока, Сергей видел тревожные и нежные глаза матери. Все живое на земле создано солнечным теплом; мальчик не мог бы выразить этого словами, но чувством он понимал, что все живое в нем даровано и сохранено материнской самоотверженностью.
Так рано, прежде и могущественнее всего иного, вместе с жалостью в его сердце поселилась любовь.
Когда Сергей чувствовал себя хорошо, его вместе с младшей сестренкой сажали в коляску и возили по саду, примыкающему к дому Аксаковых. Сад небогатый, но там были цветники с ноготками, шафранами и астрами, кусты смородины, крыжовника и барбариса, редкие яблоньки; в положенный срок набухали и лопались почки, и в положенный срок летели несомые осенним ветром желтые и красные листья, а над ними торопились неизвестно куда птичьи стаи и облака.
Взрослые подсчитали, что Сергей изъездил по этому саду больше пятисот верст.
«Величие красот божьего мира незаметно ложилось на детскую душу», — писал он, благодарно вспоминая эти путешествия через много десятков лет.
Как-то, сидя на окошке, Сергей услышал в саду жалобный визг и стал просить мать, чтобы послали посмотреть, кто это плачет.
— Верно, кому-нибудь больно.
Дворовая девушка побежала в сад и вернулась, неся в пригоршнях крошечного, еще слепого щеночка. В мире мальчика поселилась неказистая дворняжка Сурка — существо, так же зависящее от его заботы, как он сам зависел от взрослых. Сестренке Сергей мог только сострадать — жалеть ее, плакать вместе с ней, когда она плачет, — Сурку он учил, кормил, оберегал. Это один из важнейших моментов в жизни — когда любимый сам становится любящим, тот, кого ласкают, сознает самого себя дарителем тепла. Вместе с этим ответственность и чуткость входят в сознание человека.
Вечерами няня рассказывала Сереже сказки. Сказки были страшные, и он плакал. Мать прогнала няню, но она ночами прокрадывалась к детям, которых очень любила, ласкала их и вся в слезах снова шептала свои сказки.
Почему это — человек любит, а рассказывает страшное?
Потом, уже под старость, в жизнь Аксакова войдет Гоголь, станет для него одним из самых почитаемых людей на земле; был ли писатель, больше Гоголя любивший Россию, и был ли писатель, сказавший своей стране что-либо горше, чем «Мертвые души» и «Ревизор»?! Он говорил о страшном потому, что видел его, и на все сущее душа его не могла не отозваться — иначе она была бы подслеповатой, немощной.
... Когда Сережа, капризничал, его выносили из дому и сажали в распряженную карету. Почему-то он сразу успокаивался. Карета стояла на месте, но если на секунду закрыть глаза и снова взглянуть, все представлялось иным. То блещущим бессчетными каплями росы, то сумрачным и задумчивым, оттого что солнце застлала туча. Иногда все менялось, потому что близко на ветку села птица: вертит головкой, смотрит, щебечет — говорит по-своему.
И вот уже жарким июльским утром в карету впрягают лошадей, и начинается настоящее путешествие. Не то — по саду, вокруг городского дома, — а такое, где за далью открывается новая даль, и каждый раз совсем другая; линия горизонта, тонувшая в степном разнотравье, сливается с грядой леса, а потом проваливается за темную крутизну, как за край земли.
Подъезжаешь ближе, и оказывается, что никакой это не «край земли», а полноводная река в крутых берегах.
Кормчий громко скажет: «Призывай бога на помощь!» — и лодка заскользит по вертящейся быстрине. Когда переезжали реку Белую, Сергей был так потрясен, что не мог выговорить ни слова.
— От страха язык проглотил, — смеялись отец и мать.
Но мальчик был подавлен не страхом, а новизной впервые открывающегося перед ним — величием красоты: слова придут позже. Он как бы захлебнулся этой красотой.
И сколько же лет должно будет миновать — вся жизнь! — пока то, что ворвалось в душу, осознается, ровно и радостно заполнит его существо.
Из Уфы, из своего городского дома, они ехали в имение деда.
Потом все детство будет пронизано дорогой, путешествиями. Поездками в дальние села к родным. Переправами через Белую и Волгу. Путешествиями в весну, осень, лето и зиму, путешествиями в ближний лес, где чудес не меньше, чем в тысячекилометровом пути, и на реку, на болото, в поле.
Лес, когда мальчик впервые войдет в него, оглушит шумом деревьев, разноголосым птичьим пением, таинственными шорохами. Не сразу, но в конце концов он научится разбирать в слитной, летучей, со всех сторон несущейся музыке даже едва слышный звук и словами воскресит этот звуковой поток, да так, что вот уже больше ста лет он льется со страниц книг Аксакова.
Прислушайтесь, говорит писатель: токуют тетерева, пищат рябчики, воркуют, каждая по-своему, все породы диких голубей, взвизгивают и чокают дрозды, зазывно-мелодически перекликаются иволги, стонут рябые кукушки, постукивают, долбя деревья, разноперые дятлы, трубят желны, трещат сойки, свиристели, лесные жаворонки, дубоноски.
Какая же сила в слове, если по воле мастера оно может трубить, стонать, чокать, трещать, петь десятками несхожих птичьих голосов так, что музыка нехоженого леса входит в тебя и остается навсегда.
Он увидит весенний перелет птиц тех давних лет нетронутой природы, когда, по выражению его дядьки Евсеича, «всякая птица валом валит без перемежки», и потом так опишет это исчезающее в наши дни чудо: «В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не видавши... Река выступила из берегов... слилась с озером грачёвой рощи. Все берега полоев были усыпаны всякого рода дичью; множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы: одни летели высоко, не останавливаясь, а другие — низко, часто опускаясь на землю; одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелетывали с места на место: крик, писк, свист наполняли воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или свистит, — я был поражен, обезумлен таким зрелищем».
Только то, что с силой потока ворвалось в тебя, перевернуло в тебе все, обезумлило, — сохранится и, может быть, вобрав частицу твоей души, когда-нибудь воплотится в творчестве. Мальчик был обезумлен природой.
... Во времена детства Аксакова в русской литературе еще преобладали цари, царедворцы и победоносные военачальники. Они были героями «Россияды» Михаила Хераскова, воспевающей покорение Грозным Казанского царства, трагедий Александра Сумарокова и множества других сочинений.
Пушкин и Гоголь продолжили и завершили движение к обычной жизни, к обычному человеку, которое начали предтечи их, великие русские писатели восемнадцатого века — Гавриил Романович Державин в лирических стихах, Денис Иванович Фонвизин своей сатирой, Александр Николаевич Радищев горьким и страстным обличением несправедливости современного ему общества.
Они — Пушкин и Гоголь — как бы застроили тогда несколько пустынную литературную Россию обычными городами и селами, от солнечного села Диканьки до села Горюхина, которое иначе и не назовешь, от губернского города N, куда въезжает на своей бричке Чичиков, до Петербурга с его Медным всадником.
И какими же удивительными оказались эти города и села! Пушкин и Гоголь заселили литературную Россию людьми из народа, говорящими не придворным, а обычным языком; туда вошли чернобородый, со сверкающими глазами Пугачев, и такой совсем неприметный, на взгляд иного даже ничтожный человек, как Акакий Акакиевич Башмачкин, вошел и Ноздрев, и несчастный Евгений, бросивший вызов медному кумиру и растоптанный им.
И когда они возникли в литературном мире, стало очевидно, что в судьбе Акакия Акакиевича Башмачкина, которому до ужаса не повезло с его новой шинелью, истинно трагического неизмеримо больше, чем во всех высоких трагедиях Сумарокова.
Пушкин и Гоголь избороздили Россию дорогами и проселками на всем необъятном протяжении страны — от «финских хладных скал до пламенной Колхиды». По сторонам раскинулись степи и леса. Дороги пересекли реки — и такие, что, по образному слову Гоголя, редкая птица долетит до середины течения.
На долю Аксакова выпало внести новую важную черту в реальную картину России, создаваемую литературой: заселить реки, степи, болота и леса рыбой, птицами, зверями.
Он и совершил это в «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии», в «Записках об уженье рыбы» и в очерке «Собирание бабочек». Он заселил литературную Россию всем, что порхает, летает, плывет по рекам, рыщет в лесах, одарил ее «аленьким цветочком» живой природы, по которому она так тосковала.
Он завершил этот труд, поселив в лесах, рядом с птицами и зверями, сказку с ее чудищами и красавицами.
Так, почти натуралист, он стал почти волшебником. Вернее сказать, не «почти», а особым натуралистом и особым волшебником. Он был не обычным, а особым натуралистом потому, что заселил землю не тем зверьем, какое изучает ученый, а преображенным взглядом поэта.
Вот болотный кулик, с желтовато-красноватым оперением, длинноногий, крик которого иногда странно похож на слова «веретен, веретен», отчего и произошло другое его имя — «большой веретенник». Обычный кулик, но послушайте, что рассказывает о нем Аксаков: «Едва только приближается охотник или проходит мимо места, занимаемого болотными куликами, как один или двое из них вылетают навстречу опасности... Болотный кулик бросается прямо на охотника, подлетает вплоть, трясется над его головой, вытянув ноги вперед, как будто упираясь ими в воздух... Самки и самцы, сидящие на яйцах, не слетают с них, пока опасность не дойдет до крайности. Охотник вступает в болото и, по мере того как он нечаянно приближается к какому-нибудь гнезду или притаившимся в траве детям, отец и мать с жалобным криком бросаются к нему ближе и ближе, вертятся над головой, будто падают на него».
Часто говорят: только вначале все интересно, в диковинку. А на самом деле чем дольше, чем внимательнее глядишь, тем больше удивительного проступает в окружающем, так что, в конечном счете, не остается ничего, что можно было бы по справедливости назвать обыкновенным.
Если уметь видеть...
Дикая утка села в прибрежных тростниках и засунула голову под крыло — спит. Красавец селезень поглядел-поглядел на подругу и тоже уснул. Но лишь только это произошло, утка стала крадучись пробираться подальше от селезня — тихонько, мелкими шажками. Она только притворилась спящей. Наступило время нести яйца и высиживать утят. Инстинкт продолжения рода и материнский инстинкт заставляет утку ускользать от себялюбивого, равнодушного к потомству селезня. Еще несколько секунд, и утка полетела — низко над озером, выглядывая безопасное место для гнезда.
День за днем она будет бессменно высиживать своих птенцов — голодная, перья да косточки, потерявшая всю свою красоту. И если близко подберется охотничья собака, утка-мать подлетит к ней, притворяясь раненой, вспорхнет из-под носа пса и так, рискуя жизнью, уведет врага от гнезда.
Часто люди говорят — «зверский поступок». Аксаков был одним из тех, кто показал, что, в сущности, звери почти никогда не совершают «зверских поступков» — им несвойственна бессмысленная кровожадность.
Он написал, как считается, одну-единственную сказку «Аленький цветочек», но сколько еще сказок благородства и самоотвержения подсмотрел он в природе и рассеял по своим сочинениям.
Он был особенным волшебником, потому что волшебники обычные если уж создают чудище, то злое, а в его чудище все время угадывается ясный и чистый человек; и в сказочном дремучем бору он видит ласковый, так им любимый русский лес.
... Зимой в Уфе к Сереже Аксакову стал ходить Матвей Васильевич, преподаватель народного училища, и учить его чистописанию. Чтобы Сереже было не так скучно, ему подыскали товарища, мальчика Андрюшу из соседской бедной семьи. По окончании уроков учитель ставил в тетрадях отметки: «посредственно», «не худо», «изрядно», «хорошо», «очень хорошо», «похвально».
И вот Сережа заметил, что, если даже они оба с Андрюшей писали одинаково неудачно, отметки ставились разные. Ему — «не худо», а Андрюше — «посредственно». А если прописи обоим удавались, Сергей получал отметку «очень хорошо» или «похвально», а Андрей — просто «хорошо». И так повторялось всякий раз; Сергей стал думать об этой странности и нашел только одну разгадку:
«Верно, учитель меня больше любит. И конечно, за то, что у меня оба глаза здоровы, а у бедного Андрюши один глаз выпучился от бельма и похож на какую-то белую пуговицу».
Первое смутное сознание неравенства и несправедливости осветило и одновременно тучей застлало душу мальчика. Это важнейший момент в жизни человека, а особенно одаренного писательским даром, потому что именно сознание несправедливости и желание сделать мир разумнее — едва ли не главная побудительная причина творчества.
Однажды Матвей Васильевич повел Сережу в народное училище. Тут учитель, прежде казавшийся добряком, странно изменился. Даже голос у него стал другим, с каким-то неприятным, угрожающим напевом.
Мальчик, вызванный к доске, не мог ответить урока.
— Не знаешь? На колени! — крикнул Матвей Васильевич.
По окончании урока трое сторожей, вооруженных пучками прутьев, принялись сечь мальчиков, стоявших за доской.
Об этом дне, запомнившемся навсегда, Аксаков писал впоследствии: «Слишком рано получил я это раздирающее впечатление и этот страшный урок! он возмутил ясную тишину моей души».
Но точно ли — «слишком рано»?! Душа воспитывается не одной любовью и красотой! Не сами «страшные уроки», а только равнодушие к ним смертельно опасны уму и таланту.
Мальчик рано увидел, что люди вокруг делятся на свободных и крепостных. Добрая бабушка может ударить дворовую девочку, чем-то ей не угодившую; добрая — да не всегда и не ко всем.
И свободные тоже делятся на таких, как он сам, его мать, отец, знакомые, и таких, как Андрюша; этих последних позволительно и выпороть, на них смотрят иначе, с ними говорят «другим» голосом. И дело вовсе не в том, что у Андрюши бельмо, похожее на белую пуговицу. Другое бельмо, клеймо, невидимое на первый взгляд, но которое непременно нужно понять, определяет Андрюшину судьбу.
Раз проснувшись, светлый и печальный интерес к народной жизни не угаснет; можно закрывать глаза на неправду — иные так и поступают, — но это все равно, что жить слепым и вместе с совестью похоронить свой дар.
От дворовых Сережа Аксаков услышит рассказы о своем незадолго до того убитом родиче, помещике-крепостнике Куроедове — изверге, который запарывал непокорных. Потом Аксаков напишет о нем, и этими правдивыми страницами внесет свою долю в понимание бесчеловечности рабства. А через много лет, при первых вестях о готовящемся освобождении крестьян он напишет стихотворное послание России, где есть такие строки:
С плеч твоих спадает бремя,
Докажи, что не рабой
Прожила ты рабства время.. .
Покажи нам, как оковы
Скинешь ты с могучих ног,
.. . Как пойдешь ты в путь свой новый,
Как шагнешь через порог...
В жизнь мальчика рано входят книги. Он жадно читает всё, что попадается ему.
Детские книги в те времена были редкостью; вперемежку с «Зерцалом добродетели», со сказками «Тысячи и одной ночи» и томиками «Детского чтения» мальчик читал распространенный тогда «Домашний лечебник» Бухана.
Чтение пробудило тягу к сочинительству. Обо всем, что он услышал или прочитал, по-своему пересочиняя, мальчик рассказывал сестренке.
Рассказывал ей о том, что в доме был пожар, а он выскочил из окошка с двумя детьми. При этом Сергей хватал сестриных кукол — они должны были изображать детей, спасаемых из пламени, — и, волнуясь, почти веря своей выдумке, играл в пожар; вместе с писательским в нем пробуждался артистический дар — долгие десятилетия эти два искусства боролись за его душу.
Он рассказывал сестре, что в саду дедушкиного дома — пещера, там обитает Змей Горыныч о семи головах; но он отрубит у змея все семь голов.
Сестричка пугалась; одну ночь она худо спала, просыпалась, плакала. Он жалел ее, но втайне гордился тем, что выдуманные им истории так волнуют. Он начинал предчувствовать «силу слов» — своих, рожденных собственным воображением.
Уже все главное для человека, или почти все, поселилось в его отзывчивой душе...
Вот ведь Пушкин так рано, еще в отрочестве, почувствовал неодолимую потребность не просто рассказывать, а писать, слагать стихи. Рифмы, строки хлынули на бумагу бурным потоком, и этот поток иссяк только со смертью. И другой великий современник Сергея Аксакова, Гоголь, юношей вошел в литературу «Вечерами на хуторе близ Диканьки».
Но может быть и иначе.
Бывает так, что человек после детства как бы разминется с самим собой и всю жизнь будет искать себя, свою судьбу. Счастье, если после многих испытаний он ее найдет.
Все уже с детства жило в Аксакове, но, чтобы вырваться на волю, пережитое должно быть воплощено в словах. Самая прекрасная картина, возникнув в воображении художника, никогда не станет существовать для других, если у художника нет красок. Слово — краски писателя. И, казалось бы, эти краски везде, слово звучит в воздухе, оно рядом, почти с самого рождения оно сопровождает тебя. Но попробуй настигни его, узнай его тайну, подчини своим замыслам.
Это было памятное время, когда в России окончательно складывался литературный язык. То, каким он утвердится, решало, сможет ли литература рассказывать не одно лишь приятное, но даже горькое и страшное, когда оно есть, — а только такая литература достойна имени народной.
И решало, ограничатся ли владения литературы светскими салонами, или она перехлестнет стены бальных залов и хлынет в просторы губернской, уездной и сельской России, чтобы там соединиться с давно уже существовавшей устной народной литературой — песенной, сказочной.
И надолго, даже навсегда, определяло судьбы русской сказки и ее творцов. Именно поэтому кажется необходимым прервать здесь повествование о жизни Аксакова, чтобы вспомнить о муках слова, переживавшихся Россией и ее писателями в годы, когда созревал талант замечательного сказочника. Судьбы языка и сказки неразделимы.

Всегда рядом.
|
| |
| |
| Lita | Дата: Четверг, 29.09.2011, 06:21 | Сообщение # 4 |
 Друг
Группа: Администраторы
Сообщений: 9620
Награды: 179
Репутация: 195
Статус: Offline
| МУКИ СЛОВА
Споры шли о самом главном, и это придавало им яростную ожесточенность.
Писатель и государственный чиновник Александр Семенович Шишков, один из первых литературных учителей Аксакова, высмеивал поклонников изысканного «штиля», которые вместо «деревенским девкам навстречу идут цыганки» предпочтут написать «пестрые толпы сельских ореад сретаются с смуглыми ватагами пресмыкающихся фараонит».
Но издеваясь, и справедливо, над салонным языком, Шишков не хотел и торжества языка простонародного. Он писал: «Расинов язык не тот, которым все говорят, иначе всякий был бы Расин». Для предметов важных язык должен иметь «тысячи избранных слов, богатых разумом, звучных и совсем особых от тех, какими мы в простых разговорах объясняемся».
Как-то Аксаков посетил своего наставника. Шишков был уже стар, болен, плохо видел. В комнате находилась девушка необыкновенной красоты. Когда она вышла, хозяин вслед ей грустно сказал:
— Скверное, брат, положение: не могу различить прекрасной женщины от урода.
Хуже было то, что прекрасных слов, простых и естественных, от слов неживых Шишков тоже не умел с точностью отличать во всю свою жизнь. И это передавалось тем, кто верил в него.
В поисках языка не салонного и не простонародного, а достойного высокой поэзии Шишков и его предшественники и последователи с надеждой обратились к церковнославянскому; из-за этого глубокого пристрастия к славянской старине их стали называть славянофилами или славянороссами.
Церковнославянский язык, говорили они, истинный предтеча народного языка, родник, из которого живая речь берет начало. На севере принято вокруг родника ставить сруб; никто не живет в прохладном строении, лишь источник журчит, выбиваясь из камней. Церкви, по мнению славянороссов, хранят в неприкосновенности источники слова: войди, говорили они, и напейся. В народе слово разменялось на мелкую монету, истратилось на повседневные нужды, в салонах оно искажено чужеземными модами — только в храме, постоянно обращенное к предметам высоким, слово осталось прежним.
Но постепенно ученые выяснили и доказали, что церковнославянский — не отец русского народного языка, а, скорее, двоюродный брат его, очень изменившийся и что-то потерявший, по обстоятельствам судьбы, из прежней живой прелести. Когда после крещения Руси сотни проповедников хлынули в нашу страну со славянского юга, где христианство укоренилось раньше, главным образом из Болгарии, вместе с богословскими книгами они принесли родственный русскому южнославянский язык.
Он стал языком проповедей и обрядов, а кругом продолжала жить - стихия народной речи — древняя и бессмертная.
Народная речь менялась по мере движения истории, как человек от детства к отрочеству, к юности и зрелости, вбирала в себя большие и малые притоки. Но не грязнилась этим, а, напротив, становилась богаче, сохраняя древнюю основу.
Века монголо-татарского ига оставили в народной речи, как рубцы, слово «кнут», слово «палач», которое произошло от «пала» — нож.
Уже давно была уничтожена опричнина, умер царь Иван Грозный, но слово «опричник» — человек злой, беспощадный, не признающий никакого закона, — осталось.
Так в годы испытаний и в годы спокойного существования рос и растет живой русский язык: вечно, сотнями молодых побегов.
И церковнославянский не был неизменен, но он менялся по-другому.
Шишкову казалось, что слова живут за монастырскими стенами, как в заколдованных, спящих замках: слова-красавицы не стареют, слова-воины блещут золотыми доспехами. Стоит только пробудить и вывести в поэзию эту армию, и какие же звучные, «важные», высокие стихи сами собой польются из-под пера.
Но на самом деле все обстояло по-иному. Уйдя от солнца в подземелья и пещеры, кроты и летучие мыши в сотнях сменяющихся поколений теряют зрение: оно не нужно в темноте, а природа по-хозяйски отбрасывает лишнее. Нечто вроде частичного ослепления происходило и в церковнославянском языке. Ведь на этом языке бабушки не рассказывали внукам сказки, матери не пели колыбельные, влюбленные не искали в нем нежных слов. И получалось, что ласковые слова, которые раньше были в южнославянском, как во всяком живом языке, стали забываться, когда язык этот превратился в церковный. Язык — это уши, сердце и глаза народа, и вот глаза перестали видеть простую жизнь, а сердце откликаться на простые человеческие чувства.
Зато множились в нем слова торжественные, важные, пышные, которые гремели в богословских книгах. Талантливые проповедники вносили в этот язык слова, как бы сотканные из пурпура и золота; слова эти прекрасны, когда хочешь описать царские чертоги, величие богов, земных и небесных, пышные празднества, но они бессильны передать прелесть обыденной жизни.
Поэты, которые шли дорогой славянороссов, даже когда писали они на обычном русском языке, только несколько архаичном, обогащенном словами древними и вышедшими из обихода и словами славянскими, невольно подчинялись самому строю по-своему прекрасной и величественной музыки церковнославянского языка.
Она диктовала направление их творчества. Чуть ли не главным и самым любимым жанром у них становится ода, где основное вдохновляющее чувство — восторг, а основной тон — восхваление царей и знатных царедворцев.
На перекрестке трех дорог, как богатырь в былинах, стояла литература. Направо пойдешь, и о тебе будут говорить в свете, будут тебя читать вечерами воспитанные люди, чтобы с приятностью уснуть. Путь гладкий, заманчивый, но если у писателя истинный талант, вспомнятся ему строгие слова Пушкина о том, что Мильтон и Данте писали не для благосклонной улыбки прекрасного пола.
И даже против воли, может быть, больно уколет сердце мысль, которую так гордо и мужественно выразил поэт Яков Петрович Полонский :
Писатель — если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.
Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода.
И лишь только эта мысль, это властное чувство возникнет в человеке, он непременно свернет с паркетно-гладкого пути на непроезжую, ухабистую дорогу, которая, по выражению Гоголя, пишет «чушь и дичь» между нищими деревеньками и помещичьими усадьбами.
Выберешь вторую дорогу — одическую — и завоюешь расположение уже не одних милых женщин, а вельмож.
Дорога эта высокая, по горным пикам; от одной исторической победы к другой понесет тебя птица поэзии, останавливаясь, чтобы поклевать корма в царских хоромах. Но не открывай глаз и не гляди вниз. Бросишь ненароком взгляд и далеко-далеко внизу в тумане увидишь обычную жизнь, вспомнишь, что сам ты тоже рожден обыкновенной матерью, и такая тоска по близким хлынет в тебя, что возьмешь и прыгнешь со спины царственной птицы, плавно парящей чуть пониже солнца, но много выше утонувших в снегу деревенек. Прыгнешь — не рассуждая, не давая себе времени поразмыслить — и разобьешься; насмерть, может быть. Или, плотнее закрыв глаза, подавишь непрошенную тоску, и если оглянешься, то только опускаясь у новой царственной вершины.
Но есть еще третий путь — писать языком, созданным народом, совсем не думая, чье расположение заслужишь.
Легко ли — не думать об этом!
В первой половине девятнадцатого века, когда созревал талант Аксакова, как и во второй половине века восемнадцатого, русская литература проходила школу овладения языком. Она преодолевала тесные рамки поэзии Тредиаковского, где беспомощно, словно в клетке, билась живая мысль, семимильными шагами шла к Державину, а затем — к Пушкину, Лермонтову, Гоголю.
Трудна дорога познания народного языка. Надо было собрать пословицы, загадки, песни, сказки, созданные за долгие века.
Но прежде всего предстояло услышать и записать (и понять их глубинный смысл) слова, которые раньше звучали в устной речи по всей России, но не проникали в книжную литературу и не воспринимались слухом салонных писателей. И тут кажется совершенно необходимым, пусть хоть очень коротко, вспомнить научный подвиг Владимира Ивановича Даля, оказавшего такое огромное влияние и на Аксакова, и на всех других русских сказочников и собирателей сказок.

Всегда рядом.
|
| |
| |
| Lita | Дата: Четверг, 29.09.2011, 06:21 | Сообщение # 5 |
 Друг
Группа: Администраторы
Сообщений: 9620
Награды: 179
Репутация: 195
Статус: Offline
| МУКИ СЛОВА (продолжение).
ВЛАДИМИР ДАЛЬ
Отец Владимира Даля, датчанин, известный в своей стране ученый книжник, отправился в Россию, приглашенный для работы в петербургских библиотеках. Легко вообразить, как во время долгой дороги этого талантливого, очень чуткого человека постепенно охватывало и чувство любви к неведомой для него стране, и сознание того, что тут, в нищих деревнях и городах, более необходим врач, чем библиограф. Он уезжает в Германию учиться новой профессии и возвращается в Россию уже как домой, на родину, врачом.
Сын унаследовал от отца избранную тем специальность. Но вместе с медициной он перенял и любовь к слову.
Владимир Даль путешествует по всей стране — от северной лесной и озерной Карелии, где старики помнят и поют древние руны, до берегов Черного моря, до Средней Азии. Он участвовал в Русско-турецкой войне, служил чиновником особых поручений в Оренбургском крае, «отходил» Хивинский поход, служил управляющим удельным ведомством в Нижнем Новгороде. Но на какой бы службе он ни состоял, главным в вечных разъездах, от юности и до смерти, оставалось собирание слов.
Как орнитолог никогда не забудет первую открытую им разновидность птиц и ботаник — первое неизвестное растение в своем гербарии, Владимир Даль не забыл, как в самый год окончания Морского корпуса восемнадцатилетним юношей записал первое «дикое», то есть прежде не известное ученым слово «замолаживает».
— Я убедился вскоре, — говорил он, — что мы русского языка не знаем, и не пропускал дня, чтобы не записать речь, слово, оборот на пополнение моих запасов.
Вслушаемся вместе с Далем в слово, с которого началась его работа собирания богатств русского языка: «Замолодить пиво, мед, приводить в винное брожение хмелем, навеселить», — объясняет Даль.
Но вот в Орловской, Тульской и других центральных губерниях бытует другое, на первый взгляд даже противоположное, понимание слова: «замолаживать» там — это пасмурнеть, заволакиваться тучами, клониться к ненастью.
В чем секрет такой многозначности? — пытается разгадать Даль.
Потом все слова, все шестьдесят тысяч собранных им «диких» слов, он будет воспринимать как тайны. И будет искать отгадки тайн в пословицах и поговорках, в сказках, где слово раскрывается в самом чистом своем значении.
«Замолаживает» — это не вообще ли к перемене погоды, от «молодик» — молодой месяц?» — думает он.
Может быть, «ненастное» значение усваивается словом от того, что бродящий мед теряет ведь прозрачность, бурлит, в нем, словно в непогодном небе, копятся буйные силы.
Собирание слов могло бы остаться только одним из видов коллекционирования, если бы не созрела к этому времени — особенно после Отечественной войны 1812 года — великая потребность в познании всех тайн языка.
«А как Пушкин ценил народную речь нашу, с каким жаром и усладой он к ней прислушивался, — вспоминал впоследствии Даль вечера, когда читал поэту свои записи. — Как одно только кипучее нетерпение заставляло его в то же время прерывать созерцания своим шумным взрывом одобрения и острых замечаний и сравнений...
Пушкин, по обыкновению своему, засыпал меня множеством отрывочных замечаний, которые все шли к делу, показывали глубокое чувство истины и выражали то, что, казалось, в каждом из нас на языке вертится, только что с языка не срывается. «Сказка сказкой, — говорил он, — а язык наш сам по себе; и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать? .. Надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке... Да нет, трудно, нельзя еще. А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет...»
Как-то во время Хивинского похода, трудного и несчастливого, пропал верблюд, навьюченный багажом Даля.
Люди, видевшие отчаяние Даля, сочувствовали ему, но в меру: имущество — дело наживное. Они не подозревали, что верблюд нес Чврев пески бесценный груз — записанные на листках бумаги слова, почти десятую часть словарного запаса, которым владела страна; большинство этих слов впервые должно было выйти в мир. В конце концов драгоценный груз отыскался.
Собирая слова, можно их сортировать согласно строгим законам грамматики, засушивать, как ботаники засушивают листья и цветы.
Даль сберег слова так, как он их услышал, в живой речи. Слова у него как бы дышат. Вот слово «конец» — сколько граней у него открыл народ! «Начало трудно, а конец мудрец», «Любовь — кольцо, а у кольца нет конца».
Или слово «лицо». «Не пригож лицом, да хорош умом», «Лицом в грязь не ударим», «С личика яичко, а внутри болтун», «Личиком беленек, да душой черненек».
К шестидесяти тысячам слов, которые были в первом словаре русского языка, изданном Академией наук, Даль прибавил еще шестьдесят тысяч, то есть удвоил запас слов. Умирая, он просил записать пять слов, которые кто-то произнес при нем; это было чуть ли не последнее его желание.
Но собрать слова — еще не значит научиться правильно и точно использовать их в литературной речи.
Великим писателям девятнадцатого века, прежде всего Пушкину и Гоголю, выпало на долю завершить многовековой труд создания литературного языка, способного выразить все, чем живет человек. Вот теперь писатель действительно становился волной в океане народной жизни, отзывающейся на каждое движение его — бурное ли или мирно-ласковое; он мог стать и грозной волной, которая сама зачинает бурю.
Язык вобрал в себя все лучшее, что накопила устная и литературная речь. В «Полтаве» Пушкин описывает Петра Великого на поле боя, где решалась судьба России: «... Лик его ужасен... Он весь, как божия гроза». Слово «лик» пришло из старославянского. Лик этот ужасен; но слово «ужасен» в стихе приобретает новый смысл — ужасен и прекрасен одновременно, ужасен для врага; стих как бы освещен ослепительными молниями, заревом битв, этой самой божьей грозой.
Николай Первый взял на себя обязанности цензора пушкинского творчества. Прочитав поэму «Медный всадник», царь сделал ряд замечаний: тут — переменить слово, там — выбросить несколько строк... В гениальной поэме Пушкина сталкиваются два героя: царь Петр, могучая держава, волю которой он воплощает, и Евгений — маленький чиновник, ничем не замечательный, мечтающий об одном: честно прожить свою жизнь с Парашей, нежно им любимой.
«Ничем не замечательный»? Это может показаться лишь на первый взгляд. Евгений прекрасен чистым и любящим сердцем, и пусть очень робким, беспомощным, но неистребимым, исчезающим только с самой жизнью неприятием бездушной силы.
На Евгения, захлестывая его, вместе с наводнением движется сама эта державная сила, Власть — «кумир на бронзовом коне».
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там.. .
Там Петр Великий создал новую столицу невиданной красоты, каменное наваждение. Каменное наваждение — потому что возник город на костях крепостных, согнанных со всех концов России. Он символ и воплощение державной воли, для которой жизнь маленького человека — ничто.
Евгению мнится, что его преследует «кумир на бронзовом коне», Петр — бронзовый, неуязвимый и беспощадный, чуждый жалости.
Николай Первый, в ряду других значительных сокращений и поправок, повелел заменить слово «кумир» каким-либо другим. Кажется, не такая трудная задача. Сколько слов, равнозначных тому, что выражено в фразе «кумир на бронзовом коне», имеет в запасе язык: памятник, изваяние, монумент... Но если вдуматься и вслушаться, нельзя не ощутить то, что часто говорил один из лучших знатоков русского языка Дмитрий Николаевич Ушаков: в сущности, в языке нет слова, в точности повторяющего смысл другого слова; каждый синоним вносит новый оттенок (другое освещение) в понятие.
«Памятник» прозвучит гордой вечностью, когда Пушкин напишет: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». Памятник! Слово это вобрало в себя народную признательность. Монумент — кажется словом неодухотворенным. Изваяние — вызывает прежде всего представление о ваятеле. Само по себе оно не имеет характера — жестокого или доброго Гигант и Русский Великан — поправки, предложенные Василием Андреевичем Жуковским, совсем меняют тон и самый смысл поэмы.
А вот кумир...
Это слово произошло от финского корня и возникло еще в языческие времена. «Кумир» родствен древнерусскому «идолищу».
Это прежде всего предмет поклонения. То, перед чем падают ниц. Что языческим божеством царит над людьми и требует жертв. Что по своей нелюдской, надлюдской воле может уничтожить человека.
Нет, не памятник, и не изваяние, и не монумент, и не Русский Великан, а именно кумир на бронзовом коне встретился Евгению в страшную ночь после наводнения.
Убрать слово кумир значило тяжело ранить гениальное произведение, и Пушкин не мог этого сделать. Поэма так и не была опубликована при жизни поэта. Напечатан был только отрывок из введения.
Одно-единственное слово!
Ну, а если бы не было в русском языке этого слова — «кумир»? Что тогда?
Его не могло не быть.
Когда Менделеев создал Периодическую систему, он предсказал существование элементов, науке неизвестных. Словарный запас народа — это включающая сотни тысяч единиц таблица всех без исключения элементов нравственной и материальной жизни народа, весь его опыт, все его чувства. Нет ничего, что нельзя выразить — вылепить, нарисовать — словом. А когда какого-либо оттенка не хватает, его можно силой поэтического гения создать.
Страна и ее литература завершили формирование языка беспредельной силы и выразительности.
... Что же происходило в это время с Сергеем Аксаковым, с которым мы расстались, когда будущему писателю исполнилось восемь лет и он считал свою детскую жизнь оконченной?

Всегда рядом.
|
| |
| |
| Lita | Дата: Четверг, 29.09.2011, 06:22 | Сообщение # 6 |
 Друг
Группа: Администраторы
Сообщений: 9620
Награды: 179
Репутация: 195
Статус: Offline
| ВСТРЕЧА С ГОГОЛЕМ
Аксаков только готовился вступить на поэтическое поприще, когда надолго был разлучен с настоящей литературой.
«Первая попавшаяся мне книга была «Кадм и Гармония», сочинение Хераскова, и его же «Полидор, сын Кадма и Гармонии», — в старости вспоминал Аксаков. — Тогда мне очень нравились эти книги, а напыщенный мерный язык стихотворной прозы казался мне совершенством».
Дядья, приехавшие в Уфу, гвардейские офицеры, оказались убежденными поклонниками воинственной ложноклассической поэзии. Сергей Аксаков шестилетним мальчиком декламировал восхищенным родичам страницы бесконечной «Россияды»:
Злодеи скоро бы вломиться в стан могли,
Когда б не прекратил сию кроваву сечу
Князь Курбский с Палецким, врагам текущи встречу.
Трудно представить себе, что эти строки могли волновать. Но ведь то было время торжества «эпической, инако героической пиимы». До чего же оно было сильно, это, по определению Белинского, «смешное и жалкое направление».
Как трудно было всей нашей литературе вырваться из-под его мертвящего влияния: что уж тут говорить о пылкой, но одинокой мальчишеской душе.
Может быть, беззащитность Сергея Аксакова перед одической поэзией определялась еще ранним его и таким страстным актерским увлечением. Как же это приятно слышать свой собственный голос, который звучит так, что ты почти не узнаёшь его.
Декламируя имена военачальников и царей, ты сам словно становишься в ряд с ними. Какое счастье видеть сияющими от первого публичного успеха глазами, как внимают тебе — не одна сестренка, которую ты пугал наивными сказками, а взрослые родичи и гости, столпившиеся в зальце...
Блистал конь бел под ним, как снег Атландских гор:
Стрела летяща — бег, свеча горяща — взор,
Дыханье — дым и огнь, грудь и копыта — камень,
На нем Малек-Адель, или сражений пламень, —
читал Сергей Аксаков выспренние вирши Николева.
Неживые слова и вычурные сравнения. Но воображение уносило маленького актера в другой мир, который тем и привлекателен, что он другой, а не обычный.
Кто не припомнит в своей жизни времени, когда хочется выдумать свой особый язык, почти гипнотически притягивают странно звучащие пышные титулы средневековых рыцарей и прозвища индейских воинов.
Обычно это бесследно проходит, как ветряная оспа. Но в пору юности Аксакова инфекция пышнословия поразила чуть ли не все образованное общество.
А потом пришла пора ученичества у Александра Семеновича Шишкова, сперва заочного, а после перешедшего в почтительную дружбу ученика с учителем.
Аксаков сразу принял во многом справедливую насмешливую критику Шишковым сентиментального «переводного» направления литературы и не заметил, что этот «певец народности» сам был на бесконечное расстояние отдален от народного языка. Он стал последователем Шишкова, потому что душа его была подготовлена к этому ранними литературными впечатлениями и уже укрепившимся актерством.
Теперь как художник он существовал словно в замке с аршинными каменными стенами, где окна высоко под потолком, да еще вместо стекол пыльные цветные витражи на исторические сюжеты. Надо взобраться на ходули, чтобы выглянуть наружу, но и тогда увидишь окружающее в багровых отблесках отгремевших сражений.
Конечно, Аксаков совсем не все время проводил в воображаемом замке. Он был хлебосольным московским барином, радостно встречающим гостей. Был охотником, исходившим башкирские и подмосковные леса и болота бессчетными зорями. Был страстным рыболовом, за долгие часы — а вместе получились бы месяцы и годы, — проведенные с удочкой на берегах рек, не упустившим ничего из того, что с глазу на глаз открывала ему природа; ни одна из этих мгновенных картин не повторяется.
Он был отзывчивым человеком, понимавшим крепостное горе страны; был заботливым мужем и отцом.
Но виденное ежедневно и вблизи не становилось для него предметом творчества, а тут же скрывалось в самому ему неведомых тайниках. Скрывалось, однако, к счастью, не навсегда, пряталось до предназначенного срока. Должно было произойти событие потрясающее, чтобы все эти богатства открылись сперва ему самому, а потом и стране.
Событием этим оказалась встреча с Гоголем.
Аксаков, как и вся Россия, познакомился с Гоголем, не зная, с кем свела его судьба, когда прочитал «Вечера на хуторе близ Диканьки», изданные без имени автора, от лица пасечника Рудого Панька.
Книга эта, такая необычная для тогдашней литературы, да и вообще для литературы всех времен, у каждого читателя с первых строк вызывает добрую улыбку.
Двадцатидвухлетний Гоголь писал Пушкину: «Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило. Я к фактору, и он, после некоторых ловких уклонений, наконец сказал, что: штучки, которые изволили послать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву».
Пушкин сразу почувствовал гений молодого писателя и представил Гоголя читающей России. Он писал в журнале «Современник»: «Читатели наши конечно помнят впечатление, произведенное над ними появлением «Вечеров на хуторе»: все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина!»
Аксакова «Вечера» взволновали до глубины души. Какое это счастье, что, когда приходит настоящее, вытверженные и усвоенные умом книжные правила искусства улетучиваются и сердце отзывается с силой и искренностью, которую иначе не назовешь, как детской.
Если сердце не умерло.
«Вечера», потом «Миргород» и, наконец, «Мертвые души» — их Аксаков услышал из уст самого Гоголя.
Словно свежий ветер — а может быть, и буря — пронесся над Россией с явлением Гоголя, позволяя оглянуть страну, чудно высветленную непостижимым светом. Казалось, слезы порой набегают на глаза чтеца и все, все виделось сквозь эти слезы, придававшие и смешному, и горькому, и тому даже, что можно бы счесть ничтожным, невыразимый смысл.
Что наполняет такой печалью страницы повести о старосветских помещиках Афанасии Ивановиче и Пульхерии Ивановне? Ведь это изображение жизни серой, не оправданной высокими порывами, бесследной для страны. Но точно ли бесследной, если думать не о череде исторических событий, а о череде дней человеческого существования?
Да, порывов в этих судьбах нет, они ровны, как долгий предосенний день на Миргородщине, но прелесть любви, нерасторжимо соединяющей два человеческих существа, растворяющей их без остатка одно в другом, лишенной всякого зла, наполняет эти жизни.
Помните эпиграф «Из записок одного путешественника», который предваряет повесть: «Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны»? ,
Можно да и легче всего увидеть в любом захолустном городке, как на всей земле, одни житейские мелочи. А можно, если даровано тебе, воспринять иной свет — слабый свет человеческих сердец, которым живо само такое нестойкое тепло земли.
Но вот в недвижном воздухе Миргорода, где добро так бездеятельно, в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» поднимается ветер зла.
При первых порывах он не страшит — ведь что-то должно было нарушить безмыслие, бездвижность, глубже смертной.
Но ветер крепнет, мчится через тысячи верст бездорожья, и вот уже он нечеловеческим объятием, которого не разомкнуть слабыми человеческими руками, сжал Акакия Акакиевича, сорвал с него шинель — только и дала человеку жизнь — и закрутил его на каменных просторах чиновного Петербурга, как опавший лист. На мгновение почудится, что сквозь черноту метели мелькнуло в дальней дали окошко, за которым два старика, Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, смотрят друг на друга — и с такой всепоглощающей заботой. Потом одно лицо гаснет, а там и другое исчезает в темном окошке, которое больше не загорится. Так темно, точно всего и было света на земле; темно, пусто.
А ветер мчится над страной, где мертвые души, и мертвые души живых Ноздрева с Плюшкиным, где город N, в котором, по словам Собакевича, «все мошенники... мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет».
Писатель собирает последние силы, чтобы, пусть даже ценой жизни, подняться выше, откуда виден свет: должен же он где-то быть.
Аксаков был потрясен Гоголем, обезумлен им — тут не найти другого, более подходящего, чем это его детское слово, прежде не вспоминавшееся ему. Слова Гоголя были не «высокие» или «низкие», важные или простонародные, а живые. Как капля дождя; влага поднялась испарениями со всей земли и грозой проливалась на страну. Они вызвали у Аксакова чувство преклонения и тревожной любви — сколько же крови отдал и отдает этот великий писатель.
И слова эти многое будили в его собственном сердце. Было чудесное детство, была почти не проявившаяся в творчестве жизнь, а теперь наступает пора свершений.
На пороге старости. Но ведь старость — не смерть.
... Однажды у Аксаковых зашла речь о Михаиле Николаевиче Загоскине — авторе известного в то время романа «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» и других исторических романов и многих комедий.
— Не то он пишет, что следует для театра, — сказал Гоголь.
— У нас писать не о чем, — возразил Аксаков. — Все в свете так однообразно, гладко, прилично и пусто, что «даже глупости смешной в тебе не встретишь, свет пустой».
Гоголь странно и значительно взглянул на Аксакова и сказал в ответ:
— Это неправда. Комизм кроется везде. Живя посреди него, мы его не видим, но если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валиться от смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его.
Потом Гоголь в комедии «Ревизор» скажет: «Чему смеетесь? — над собою смеетесь!»
И те его современники, которые одарены способностью души чувствовать неправду и страдать от нее, поймут, что и плачут они над собой, над безысходностью жизни.
Но видит ли то, что должно родить надежду, автор, поднявшийся так высоко, как, может быть, до него еще не поднимался никто?
Перечитаем «Шинель».
«Мало сказать: он служил ревностно, — говорится об Акакии Акакиевиче, — нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его».
Он был охвачен вдохновением — ведь иначе и не скажешь. Молодые чиновники зло издевались над ним, подстраивали всякие каверзы. ..
«Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним... Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то... преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами:
«7,
«Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — ив этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной образованной светскости, и, боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным».
Может быть, это и была заря — рождение чувства, от которого вся Россия остановилась, как пронзенная.
Поэзия Гоголя осветила в душе Аксакова свое; то, что было накоплено во всю жизнь.

Всегда рядом.
|
| |
| |
| Lita | Дата: Суббота, 01.10.2011, 15:28 | Сообщение # 7 |
 Друг
Группа: Администраторы
Сообщений: 9620
Награды: 179
Репутация: 195
Статус: Offline
| К ДЕТСТВУ, К СКАЗКЕ
Странно и грустно встретиться в воображении с Сережей Аксаковым, которого мы знали красивым и милым мальчиком, с блестящими глазами и сердцем нежным и таким впечатлительным, что он чуть ли не смертельно заболевал от несправедливого слова, встретить этого мальчика Сережу, когда он превратился в отца семейства и деда — пятидесятичетырехлетнего, рано состарившегося и очень больного.
Седая борода обрамляет осунувшееся лицо, левый глаз почти ослеп, да и правый видит так плохо, что Аксаков не может сам писать — приходится диктовать. Вот и жизнь прошла... Но точно ли «прошла»? Четырнадцать лет осталось ему, и теперь мы знаем, какими до краев наполненными творчеством, а значит, и счастливыми были эти полтора последних десятилетия.
Глаза видят плохо, но домочадцам кажется, что старик все время вглядывается во что-то незримое для них.
Да так и есть на самом деле. В это время Аксаков писал Гоголю: «Живем мы в деревне, тихо, мирно и уединенно; даже не предвидим, чтобы могла зайти к нам скука... От утреннего чая до завтрака и потом до позднего обеда все заняты своими делами: играют, рисуют, читают... Я затеял написать книжку об уженьи не только в техническом отношении, но и в отношении к природе вообще; страстный рыбак у меня так же страстно любит и красоты природы; одним словом, я полюбил свою работу и надеюсь, что эта книжка не только будет приятна охотнику удить, но и всякому, чье сердце открыто впечатлениям раннего утра, позднего вечера, роскошного полдня и пр. Тут займет свою часть чудная природа Оренбургского края, какою я знавал ее назад тому 45 лет. Это занятие освежило и оживило меня ..»
Вскоре «Записки об уженье рыбы» были напечатаны, а через несколько лет вышли еще две книги о природе с такими же совсем не зазывными названиями: «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» и «Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах».
Тому, для кого чтение — одно из самых больших, а то и главное счастье жизни, в каждой книге слышится особый голос.
Голос книг Аксакова — негромкий, как бы застенчивый. С первых страниц слышится вопрос: да интересно ли вам? Слышится почти просьба: как хорошо было бы отбросить всё и пойти в глубь леса, по болоту, где почва упруго подается под ногами, на берег реки, где всплеснет рыба, блеснет сильным и прекрасным виденьем на
утреннем солнце, и снова, ничем не нарушимое, стремится у ваших ног теченье; пойти, если сердце «открыто впечатлениям раннего утра, позднего вечера, роскошного полдня...».
И ты еще неясно думаешь, последовать ли робкому зову — в страницы, где нет ни воинских подвигов, ни любовных переживаний и увлекательных приключений, а руки уже сами собой листают книгу неторопливо, задумчиво, не так, как когда спешишь узнать, что дальше.
Не одно поколение писателей пошло за Аксаковым в этот мир: Лев Толстой, Тургенев, Бунин, а в наше время — Пришвин, Бианки, Паустовский, Соколов-Микитов.
Раз родившись, мир Аксакова не исчезнет. И это особое течение в литературе прозвучит, по-своему преображенное, и в «Детстве» Толстого, и в «Степи» Чехова, и в некоторых, самых чистых страницах современной прозы.
Вышли первые сочинения Аксакова, а он уже писал другие, самые свои главные, одно за другим: «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова-внука».
Писал, как сажал деревья, только деревья все-таки умирают в положенный срок, а эти книги даже не стареют.
Писал, как сажают деревья, — ведь взглянешь на дуб, зеленым шатром раскинувший свои ветви, и нельзя себе представить, что когда-то его не было. Да, возникают время от времени книги, с которыми связывается чувство, что они не только будут всегда существовать, но и всегда существовали: книги Толстого, Андерсена, Чехова, Сервантеса; и «Детские годы Багрова-внука» среди них.
«Порой кажется, что внезапное озарение может совершенно перевернуть человеческую судьбу, — писал замечательный французский писатель и сказочник Антуан де Сент-Экзюпери, с которым мы еще встретимся в этой книге. — Но озарение означает лишь то, что духу внезапно откроется медленно подготовлявшийся путь. Я долго изучал грамматику. Меня учили синтаксису. Во мне пробудили чувства. И вдруг в мое сердце постучалась поэма».
И еще он говорил: «Жить — значит медленно рождаться. Это было бы чересчур легко — брать уже готовые души».
Душа Аксакова долгими годами выработалась и раскрылась до самой глубины, тогда, только тогда в нее постучалась поэма — «Детские годы Багрова-внука».
Гоголь, с мыслью о котором писалось каждое слово этого произведения, не прочитал его, он умер за шесть лет до выхода книги, как не прочел Пушкин, убитый за пять лет до появления первой части «Мертвых душ», — поэмы, им вдохновленной.
... Еще раз, незадолго до смерти Сергея Тимофеевича Аксакова, возникает мальчик с блестящими глазами и таким нежным сердцем — Сережа, чтобы больше уже не взрослеть, и не стареть, и встречать каждое поколение. Когда Аксаков перечитает рукопись и детство заново, чредой незабвенных лиц, веснами и зимами, реками, лесами и полями, пением птиц, горькими и счастливыми минутами, любовью и скорбью, пройдет через его душу, пройдет перед почти погасшими глазами, он почувствует, что одного мотива, непременного в этой музыке детства, нет — сказки.
Тогда-то он напишет «Аленький цветочек» и напечатает его приложением к «Детским годам Багрова-внука».

Всегда рядом.
|
| |
| |
| Lita | Дата: Суббота, 01.10.2011, 15:30 | Сообщение # 8 |
 Друг
Группа: Администраторы
Сообщений: 9620
Награды: 179
Репутация: 195
Статус: Offline
| Глава третья
ТАЙНЫ СКАЗКИ
СКАЗОЧНАЯ СТРАНА
Столько месяцев, день за днем, я по долгу этой работы и по внутренней необходимости живу в различных и непохожих сказочных странах и встречаюсь почти исключительно со сказочными персонажами. Если обстоятельства вдруг неожиданно вынесут оттуда в мир, который принято называть реальным, и ты, не совсем еще очнувшись, встретишь жителя этого мира, долго ли обознаться.
— Извините, — скажешь ты, — где-то я вас видел. Секунду, дайте припомнить... Ах да, вы не Кощей Бессмертный? ..
— Вовсе нет, — - ответит случайный встречный, и хорошо еще, если не обидится. — Откуда вы взяли, что я бессмертный?
Но если вдруг вслед за почтенным сухощавым старичком, которого ты так неосторожно обидел, тебе встретится фея...
Если кто-то шепнет в глубине сердца: «Это она», пожалуйста, забудь о том, что произошло, и не беги, а подойди к ней и спроси:.
— Вы фея?
По всей вероятности, она не ответит. Да и к чему отвечать; главное, чтобы она улыбнулась.
Ах, если она улыбнется тебе... Ты спроси:
— Вы умеете совершать чудеса?
Она снова промолчит, но когда взгляды ваши встретятся, ты почувствуешь, что чудо уже произошло. Какое чудо? Деревья стали зелеными!..
— Они и раньше были зелеными, — проскрипит чей-то, не будем догадываться чей, пренеприятный голос.
Не слушайте его! Зачем он вмешивается!
Феи переходят из сказки в обычную жизнь и из обычной жизни в сказку не меняясь, как мы переходим улицу.
Но для остальных это не так просто. Попробуйте проникнуть хотя бы в Зазеркалье, не зная главной тайны... Ударитесь лбом о стекло — и делу конец.
Без тайны не обойтись.
Говорят, есть такая Академия Сказки, которая решает, кого пропустить в сказку, а кому там делать нечего. Президентами в Академии Михаил Иванович Топтыгин и гном с седой бородкой, такой старый, что вот уже тысячу лет он позабыл свое имя; все его называют просто Старый Гном.
Кролик выйдет на середину лесной поляны, той, что среди дремучего леса. С одной стороны поляны — дубы в три обхвата, а за стволами иногда промелькнет нечто, льющее свет.
Выхватить бы из хвоста Жар-птицы — ведь это она промелькнула среди дубов — хоть самое маленькое перо. Ведь некоторым это удалось. Заблудится ночью прохожий — чужой или близкий тебе человек, — а ты достанешь из-за пазухи пылающее заветное перышко, может быть, он и найдет дорогу.
Словом, с одной стороны поляну охватывает сказочный бор. А с другой — обычное мелколесье: осины, березки, елочки, поросшие лишайником.
Кролик выбежал из мелколесья и остановился.
— Как звать? — рявкнул Михаил Иванович.
— Кро-о-олик.
— Иди! — прорычал Михаил Иванович. — Теперь ты будешь зваться не просто кролик, а Братец Кролик!
А за кроликом прошмыгнула лиса и, не дожидаясь вопросов, протявкала :
— Лиса Патрикеевна!
— Гнать ее! Гнать! — прямо-таки завопил член Академии Серый Волк. — Это она подучила меня ловить рыбу в проруби! По ее милости я хожу без прекрасного своего хвоста, всему свету на потеху.
— Гнать ее! Гнать! — прокукарекал член Академии Петушок — золотой гребешок. — Это она выманила меня из избушки и чуть было не унесла в далекие края!
— Гнать ее! — прорычал и сам президент Академии Михаил Иванович, которому рыжая плутовка тоже успела порядком насолить.
Прорычал и оглянулся. А лисы и след простыл. Прошмыгнула в бор, теперь ее не догонишь. Да и кому охота связываться с лисой!
Вдруг мелколесье превратилось в море, из глубины показалась девушка неописуемой красоты и медленными шагами подошла к Топтыгину. Кровавый след остался за крошечными ее босыми ножками.
— Кто ты такая? — со странной робостью, шепотом спросил Михаил Иванович; оказывается, он умеет не только рявкать. — Как зовут тебя?
Губы девушки беспомощно и жалко затрепетали, но ни звука не вырвалось из ее груди.
— Это Русалочка, — сказал Старый Гном. — Не спрашивайте ее ни о чем: она не может говорить.
— Но, помнится, когда я был еще обыкновенным молодым медведем, а не Президентом Академии и имел время ловить рыбу в море, иногда лунной ночью к берегу подплывали особы, почти такие же красивые, как эта Русалочка, только с рыбьими хвостами вместо ног. И они не казались немыми, а, напротив, рычали — у людей это, кажется, зовется пением, — да так завлекательно, что юноши, оказавшиеся случайно на берегу, шли за ними в глубину моря и не возвращались. Я сам по молодости лет пошел было однажды за поющей русалкой, но вода оказалась холодной, и, к счастью, я как-никак медведь, а не глупый человек.
— Да, вы правы, — сказал Старый Гном. — Раньше эта Русалочка тоже чудесно пела, как ее сестры. Но однажды, выплыв на поверхность моря, она увидела принца и полюбила его. Она отправилась тогда в темные и страшные глубины к русалочьей ведьме и упросила ведьму заколдовать ее, чтобы она могла пойти к своему принцу. Ведьма превратила хвост Русалочки в прелестные ножки, но за это сделала ее немой, так что принц никогда не узнает, как она его любит. И при каждом шаге ноги Русалочки кровоточат, невыносимая боль пронзает тело. Но ни слезинки не появится на ее глазах: ведь иначе принц мог бы огорчиться, а принцы не любят огорчаться. И ведьма сделала так, что Русалочка будет жить не триста беззаботных лет, как ее сестры, а лишь короткий и трудный человеческий век.
— Pppp.. — тихонько прорычал Михаил Иванович. — Я тоже знаю, что такое любовь... Например, я люблю мед.
Он махнул лапой, и академик-секретарь Пчела вместе с тысячью помощников принесли полные соты.
— Ррр. — не очень внятно прорычал Президент Академии, набивая пасть медом. — Я знаю, что такое любовь, но можно ли безумствовать из-за этого приятного чувства? Впрочем, пусть Русалочка идет к своему принцу. Мне жалко ее...
И девушка пошла, оставляя кровавые следы на мху, в глубину бора, туда, где был дворец.
И стало видно, что впереди нее, осторожно раздвигая кусты колючего терновника и отгоняя диких зверей — чем еще он мог ей помочь? — идет высокий длинноносый человек с такими нежными и внимательными глазами, что в нем нельзя не узнать Ганса Христиана Андерсена.
— Ррр... — прорычал Михаил Иванович вслед, и горькая слеза, правда не такая уж очень горькая, она ведь пропиталась медом, скатилась по мохнатой щеке. — Мне ужасно жалко ее...

Всегда рядом.
|
| |
| |
| Lita | Дата: Суббота, 01.10.2011, 15:30 | Сообщение # 9 |
 Друг
Группа: Администраторы
Сообщений: 9620
Награды: 179
Репутация: 195
Статус: Offline
| СКАЗОЧНАЯ СТРАНА (продолжение).
МАЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ
Серый Волк, Лиса Патрикеевна, Михаил Иванович и феи, конечно, имеют своих братьев и сестер в нашем, реальном мире. Но как в сказке появляются все эти мурзилки, эльфы с крылышками, такие крошечные, что отлично умещаются в венчике цветка, Дюймовочки, северные тролли, карлы, мальчики с пальчик, лунные человечки, гномы?
Это необходимо выяснить поскорее, не откладывая, потому что маленькие человечки встречаются чуть ли не в каждой сказке. И потому еще, что в следующей главе речь пойдет об Антонии Погорельском, сто пятьдесят лет назад рассказавшем историю большого и знаменитого племени петербургских подземных жителей — гномов.
Откуда они приходят? Как возникают?
Одна маленькая девочка пошла ранним утром погулять со своим дедушкой, старым профессором.
— Хм, — сказал дедушка профессор, — хорошее утро; в такие утра прогулка полезна.
А внучка, не отвечая деду, может быть даже не расслышав его, замерла перед травинкой: на стебле висела капля росы.
— Идем, — поторопил дедушка. — Ходить, хм, полезно...
— Но... но там эльф! — еле слышно прошептала внучка, потрясенная увиденным; она была еще очень маленькой.
— А, ты об этом?.. — улыбнулся дед, заметив наконец каплю росы, повисшую на самой обыкновенной травинке. — Этому... хм... не следует удивляться. Ты видишь просто-напросто свое уменьшенное отражение; оно возникает оттого, что угол падения светового луча... хм... равен углу отражения и... Словом, когда вырастешь, сама поймешь.
— Но там эльф в зеленом дворце с прозрачными стенами... — шептала внучка, мгновениями с надеждой вскидывая глаза и снова вглядываясь в росинку. — Это дворец эльфов... Я знаю.
— То, что тебе кажется стенами дворца... хм... результат оптического эффекта, благодаря которому... Впрочем, впоследствии ты все это несомненно поймешь.
— Ничего я не хочу понимать и узнавать! — сквозь слезы закричала внучка. — Я тогда забуду эльфа и его зеленый дворец. А я не хочу, не хочу забывать его!
Пришлось снова задуматься о маленьких человечках — очень уж все получается с ними не просто, — и вдруг на глаза мне попалась книга Владимира Михайловича Конашевича, чудесного детского художника.
Книга Конашевича — желтая и светящаяся, каким бывает солнце, нарисованное самым ярким желтым карандашом, а называется она: «О себе и о своем деле».
Она сразу привлекла меня; вспомнилось, что Корней Иванович Чуковский считал Конашевича одним из самых добрых людей на земле.
Чуковский рассказывал, что как-то он попросил Конашевича нарисовать Чудо-юдо рыбу-кит из сказки Ершова «Конек-горбунок».
Киту этому, по стихам Ершова, живется — хуже не придумаешь:
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты,
На хвосте сыр-бор шумит,
На спине село стоит;
Мужички на губе пашут,
Между глаз мальчишки пляшут,
А в дубраве, меж усов,
Ищут девушки грибов.
Легко ли!
— А Конашевич, — говорил Чуковский, — нарисовал Кита улыбающимся, словно ему очень приятно, что у него на спине раскинулся поселок, где живут милые люди.
Я раскрыл книгу Конашевича и отыскал рассказ о некоем происшествии, случившемся с ним и его сестрой Соней, когда они были совсем маленькими.
«Как-то я раздобыл ножницы, к которым не полагалось прикасаться, намереваясь что-то вырезать из бумаги, — вспоминает Конашевич. — Их с ужасом у меня выхватили, боясь, что я себе уже искромсал руки. Но руки мои были целы, зато клеенка на нашем круглом столике оказалась прорезанной. Потом, пытаясь вытащить из этого прореза какую-то крошку... я загнал туда обгорелую спичку... За ужином моя тарелка споткнулась об эту спичку, я вспомнил о ней и, показав сестре, сказал: «Соня! Соня! Вот маленький человечек!» ... Видя почти полную веру сестры в то, что под клеенкой живой человечек, я сам начинал в это не то что верить, но сильно надеяться, что спичка какими-нибудь чарами в него превратилась. Потом долгие усилия тихонько вынуть его, не повредив тонких ручек и ножек, сделали его невероятно драгоценным и совсем убедили нас в том, что это он — долгожданный крошечный человечек! ... Мы останавливали несколько раз нашу «работу», споря чуть не до драки, кто это: мальчик или девочка... долго обсуждали, куда «его» денем, где «он» будет спать, как «его» зовут».
Долгожданный маленький человечек! Да, и в три года, и в четыре года Володя и Соня Конашевичи мечтали о маленьких людях.
И разве они одни ждали и ждут встречи с ними?
Разве есть, или была, или будет хоть одна детская душа, в которой не возникала бы мечта о встрече с гномами, мурзилками, лилипутами, эльфами?! И может ли не возникнуть в ребенке такая мечта!
Замечательный польский педагог и сказочник Януш Корчак писал о детях и от их имени: «Неудобно быть маленьким. Все время надо задирать голову... Все происходит где-то наверху, над тобой. И чувствуешь себя каким-то затерянным, слабым, ничтожным... Может быть, поэтому мы любим стоять около взрослых, когда они сидят — так мы видим их глаза».
Да, стоит только вызвать в памяти свое раннее детство, и легко будет убедиться в том, что с таким сердечным сочувствием и мудростью выразил Януш Корчак: неудобно, ужасно неудобно быть маленьким среди больших и вечно ходить с задранной головой.
Обидно, а иногда и невыносимо грустно, когда все или почти все считают тебя несмышленышем, не слушают тебя, только учат своим взрослым знаниям, не желая или не умея задуматься над тем, что подсказывают тебе твои чувства и твое воображение и что может скоро бесследно исчезнуть, как зеленый прозрачный дворец, где живет эльф.
И так относятся к маленьким иногда даже самые любящие люди; а мир, к беде, населен не только любящими.
Все это бывает до того обидно, что ребенку хочется — нет, не просто хочется, а необходимо — найти мир, на обитателей которого он сам мог бы смотреть сверху вниз, как смотрят взрослые на него. Найти живые существа, которых бы он мог любить и опекать, как взрослые любят, учат и опекают его.
Так возникает мечта о крошечных человечках, а потом и глубокая вера в их существование.
И тогда навстречу ждущим и уже заранее любящим сердцам, широко открытым детским глазам отовсюду — из капли росы и из разрезанной клеенки, где застряла обгорелая спичка, из венчиков цветков, лунных и солнечных теней — выходят, вылетают, выбегают маленькие человечки.
И если некоторые дети сразу начинают воспитывать своих только что обретенных человечков — девочки играют с ними в дочки-матери, а за непослушание ставят их в угол или шлепают, мальчики заставляют маршировать, делают из человечков солдат, устраивают сражения, — если некоторые дети поступают с человечками, как иные из взрослых, любящие учить и приказывать, то другим нужнее не кукла, послушная, как кукла, а верный товарищ, надежный в беде, с которым не страшно было бы пуститься в самое далекое путешествие.
И тогда-то эти вот маленькие человечки проникают в сказку.
Маленькие человечки в сказках — посланцы самого многочисленного на земле Народа Детей. И они приносят в сказку веру в справедливость, вечную и главную веру этого вечного народа.

Всегда рядом.
|
| |
| |
| Lita | Дата: Суббота, 01.10.2011, 15:32 | Сообщение # 10 |
 Друг
Группа: Администраторы
Сообщений: 9620
Награды: 179
Репутация: 195
Статус: Offline
| ТАЙНЫ И ОБИДЫ МАЛЕНЬКИХ ЧЕЛОВЕЧКОВ
И вот маленькие человечки — гномы, карлики — поселились в сказочной стране. Как им там? Прислушаемся — у гномов не такие уж громкие голоса и тайны они свои берегут, а если рассказывают, то только шепотом, да еще на ушко друг другу.
Прислушивались многие, но одними из первых услышали гномьи тайны и поведали о них людям немецкий фольклорист Иоганн Рудольф Висе, написавший об этом книгу «Народные сказания», и поэт Генрих Гейне — ведь фольклористы, сказочники и поэты отлично понимают гномий язык.
Путешествуя в горах Гарца, Гейне увидел множество маленьких щелей в скалах; тамошние жители так их и называли — норы гномов. И узнал, что, вылезая из своих жилищ, гномы — а они ужасно любопытны и любят бродить по окрестностям — на всякий случай надевают шапки-невидимки или туманные шапочки.
Каждый видал, как ранним утром на луга ложится, прижимается к травам словно светящийся изнутри туман. Может быть, гномы вышли на прогулку? Или они собрались всем народом, стоят, прислонившись к травинкам, как мы прислоняемся к деревьям, решают свои дела?
Дел у маленьких человечков множество, и не такие уж они простые. Висе рассказывает, что в одной окруженной горами деревне гномы часто спускались в долину и помогали крестьянам в работе; особенно они любили косить сено своими маленькими косами.
Поработав хорошенько, гномы отдыхали всегда на одной и той же толстой кленовой ветке в тени листьев. Но однажды злой и глупый человек подпилил ветку; когда гномы упали, человек этот стал вдобавок смеяться над ними.
Гномы очень обиделись:
О, как небо высоко
И измена велика!
Теперь прочь — и навсегда! —
закричали они, поднялись с земли и исчезли. Больше в этих местах они не появлялись, и как же тоскливо стало людям!
А близ другой деревни росло на горе прекрасное вишневое дерево. Однажды летом, когда ягоды поспели и пастух, которому принадлежало дерево, задумал собрать урожай, оказалось, что вишня уже обобрана, все ягоды в корзинках и решетах снесены в амбар. Узнав об этом, деревенские старики сказали пастуху:
— К тебе приходили гномы из племени Честных карликов. Они приходят по ночам в длинных плащах, скрывающих их ноги. Пожалуйста, не подглядывай за ними, не мешай им.
К сожалению, пастух не послушался мудрого совета: он решил непременно узнать, почему карлики всегда так старательно прячут свои ноги.
Прошел год, вновь наступило лето, поспели вишни. Когда карлики по ночам стали их собирать, пастух взял мешок золы и рассыпал его вокруг дерева. Наутро он увидел: вишня обобрана, а на золе отпечаталось множество гусиных лапок.
Пастух расхохотался и стал кромко кричать, чтобы карлики услышали — там, среди гор и скал, в своих городах:
— Ваша тайна раскрыта! Я расскажу о ней всем на свете! Никто не откликнулся. Окончился день, и с заката до полуночи с гор доносился глухой шум — гномы разрушали свои дома, чтобы и следа не осталось. А потом до самого рассвета слышался топот множества ножек: карлики уходили на чужбину.
Жители Кёльна, как рассказал в своей сказке «Кёльнские домовые» Август Копиш, по сию пору вспоминают:
При домовых жилось привольно!
Нам делать было нечего —
Лежи с утра до вечера!
А станет темно —
В дверь и в окно
Спешат человечки...
Еще хозяин крепко спит,
А в доме все уже блестит! . .
Кёльнские гномы — мастера на все руки. Они шьют, и портной может спокойно спать, они делают вино вместо «лентяя винодела», пекут вкусные хлеба вместо булочника: «Пока все дрыхнут, как сычи, готовы хлеб и калачи». Так продолжалось, пока гномы не наткнулись на людское неразумение и неблагодарность.
Снова разыгралась все та же история:
Решила вдруг жена портного
Увидеть ночью домового.
Рассыпав по полу горох,
Старуха ждет... Вдруг кто-то — грох! —
И вниз со ступенек
Летит через веник!
Следом второй
В бочку с водой...
Малютки толкаются,
Кричат, спотыкаются...
С тех пор мы домовых не ждем...
Их не разыщешь и с огнем!
Я вспомнил все эти печальные истории, когда был на дне рождения у десятилетнего сына моих друзей. Взрослые разговаривали о важных, взрослых делах, а из другой комнаты доносились веселые, возбужденные детские голоса и топот ног.
Потом шум умолк, и так внезапно, что отец именинника поднялся и открыл дверь. Я пошел вслед за ним. В большой комнате, где мы очутились, было пусто — мебель ради праздника вынесли, — только у стены стоял стол, прикрытый длинной скатертью, свешивающейся до самого пола, везде валялись игрушки, а детей не было.
— Убежали во двор? — спросил я.
— Нет, нет, — ответил мой приятель и лицо его стало строгим и недовольным. Он подошел к столу и сердито сказал: — Вылезайте! Сейчас же вылезайте! Ну, вылезайте же, наконец!
Я должен был остановить моего приятеля, даже обязан был сделать это, хотя бы потому, что отлично знал со слов Гейне, Андерсена, Погорельского, Корчака, как гномы и дети берегут свои секреты и как они обижаются, когда даже самые близкие врываются в их тайную жизнь; именно на близких обижаются больше всего. И знал, как любят гномы забираться в темные укрытия и оттуда, невидимыми, смотреть на мир. Знал! Поэтому я и пишу эту маленькую главку, что тогда не выполнил своего долга.
Мой приятель рванул скатерть, в сердцах отбросил ее, и там, в темноте, сгустившейся под столом, стали видны пар пятнадцать ярко сверкавших детских глаз. Если это был экипаж парусника, то ясно, что как раз в этот момент парусник подплывал к необитаемому острову; если корабль — космический, то пилоты, точно держа курс, вели его прямиком к Марсу; и марсиане по этому случаю вышли из своих подземных городов, где они обычно скрываются; если...
Но мой приятель крикнул:
— Тьфу! Духота какая... и темень. Сейчас же вылезайте! Сколько еще повторять!
Он крикнул это и...
Да ничего, собственно, не случилось... Просто глаза ребят теперь, когда они вылезли из-под стола, светились несколько менее ярко. Необитаемый остров разом ушел на дно океана. Марсиане скрылись, и Марс вновь стал холодным и мертвым, как это и положено звезде войны.
Конечно же, ребята не убежали, как поступают гномы. Не убежали, но как бы ушли в себя, отдалились от нас. И как стало страшно: а что, если это расстояние, эта невидимая «даль» будет и дальше расти?
Но мы тогда не думали об этом, спокойно вернулись во «взрослую» комнату и занялись своими важными взрослыми разговорами...
«Ах, как хотел я стать хоть на минутку тобою, чтобы узнать твои мысли! Ведь ты был уже человеком!» — Человек этот — полуторагодовалый сын из рассказа Юрия Казакова «Во сне ты горько плакал». — Я... с тоской думал, что ты мудрее меня, что ты знаешь нечто такое, что и я знал когда-то, а теперь забыл, забыл... Что и все-то на свете сотворено затем только, чтобы на него взглянули глаза ребенка!»
Со страстной заинтересованностью писатель пытается проникнуть в мысли, желания, поведение, во весь сложнейший внутренний мир крошечного ребенка. «Странно, но ты в это лето не любил играть обыкновенными игрушками, а любил заниматься предметами мельчайшими. Без конца ты мог передвигать на ладошке какую-нибудь песчинку, хвоинку, крошечную травинку... Жизнь, существование пчел, бабочек и мошек занимала тебя несравненно больше, чем существование кошек, собак, коров, сорок, белок».
Что ж, может быть, такое даровано ребенку самой природой — чтобы первые встречи с ней не испугали огромностью ее, непостижимостью. Чтобы он, с самого начала жизни, почувствовал себя не слабым, беззащитным существом перед многоликою природой, а старшим братом ее. Именно старшим братом — рыбок, букашек, травинок, покуда сам он еще малая кроха, — но уже добрым, внимательным, готовым прийти на помощь. Ведь он человек, и быть старшим братом природы — первый его долг, который должно осознать на самой заре жизни.
А потом, когда он вырастет и мир вокруг необъятно расширится, это ощущение постижимости природы и ее зависимости от него, это братское чувство, быть может, самое драгоценное из всех дарованных нам чувств, останется в нем, чтобы до последнего часа он жил не равнодушным прохожим, а добрым, мудрым и сильным братом природы, ее защитником и покровителем.

Всегда рядом.
|
| |
| |
| Lita | Дата: Суббота, 01.10.2011, 15:38 | Сообщение # 11 |
 Друг
Группа: Администраторы
Сообщений: 9620
Награды: 179
Репутация: 195
Статус: Offline
| Глава четвертая
АНТОНИИ ПОГОРЕЛЬСКИЙ
ДРУГ ЛЮДЕЙ
Антоний Погорельский — псевдоним Алексея Алексеевича Перовского; имение писателя называлось «Погорельцы», и это имя стало связано с ним навсегда.
Если попытаться одним словом определить лицо Перовского, когда он глядит на нас с портрета, то первым приходит в голову слово — «отважное», а потом другое — «мальчишеское»; но ведь это очень похожие слова.
Светлые, чуть вьющиеся волосы открывают высокий лоб. Синие глаза светятся какой-то тайной — «ах, как много я бы мог, должен был бы рассказать» — и нетерпением, тем детским нетерпением, которое у одних проходит с наступлением взрослости, а у других, немногих, остается навсегда и гонит человека по морям и океанам, к безумствам и подвигам; а иного неудержимо тянет открывать вместо новых земель человеческие души, добывать не клады, а радость, похороненную на дне души житейскими обстоятельствами, как под чугунной плитой.
Нетерпение, беспокойство.
Друзья Перовского прозвали его петербургским Байроном: он походил на английского поэта и безрассудной смелостью, и тем, что немного хромал, и красотой. Только у Байрона красота была несколько мрачная, «демоническая», как выражались современники, а у Алексея Перовского — светлая и, может быть, отчасти жертвенная. Что-то печальное нет-нет да и мелькнет в синем огне его глаз и сразу скрывается, заслоненное нетерпеливым беспокойством.
Оно, это беспокойство взгляда, запечатлено портретом так сильно, что иногда кажется: еще минута, и Алексей Перовский выйдет из рамы, как из раскрытой двери, выбежит, словно из соседней комнаты.
И это даже не так удивительно, потому что он был сказочником; есть ли профессии ближе, чем сказочник и волшебник! И как бы это было замечательно, если бы он хоть на минуту покинул раму с холодной позолотой и ответил на самые важные вопросы.
Ведь о жизни его известно так мало. Почти двести лет отделяют нас от его рождения. Какое огромное расстояние — два столетия, попробуй разгляди в этой дали времени очень сложную и трудную жизнь, ощути ее тепло и вбери в себя, так, чтобы нетронутой перенести на бумагу, бережно, как переносишь заснувшего ребенка.
И больше, чем даль длиной в два столетия, различить живые черты Алексея Алексеевича Перовского мешает одно досадное обстоятельство.
Управляющий имением Перовского Погорельцы был ненасытным обжорой. Больше всего на свете он любил особые котлеты, подававшиеся в бумажных кружевцах-папильотках. Он ел эти котлеты день за днем, тщательно вырезая папильотки из дневников, писем, черновиков Перовского, пока не были уничтожены все бумаги домашнего архива.
... Почему-то мне кажется, что я бы спросил Алексея Перовского не о писательских его замыслах, сказках, которые он не успел написать, а о таком второстепенном обстоятельстве: в чем причина его хромоты — какая-то тайна чудится в этом.
Спросил, если бы был уверен, что вопрос его не обидит.
Но ведь он не выйдет из рамы: золотые багеты — не двери. Остается вчитываться в то, что сохранилось в письмах друзей, в собственные его сочинения, в немногие воспоминания о нем.
Известно, что во время Отечественной войны с французами Алексей Перовский был боевым офицером — штаб-ротмистром; что он участвовал в ожесточенных сражениях при Дрездене, Кульме и многих других. И всегда был впереди, увлекая за собой друзей боевым кличем:
— Пусть хоть тысяча французов!..
Он участвовал в отчаянно смелых атаках; конь уносил его от смерти, пуля и сабля не могли настичь.
К началу войны он уже хромал, так что близкие и друзья не были уверены, возьмут ли его в армию.
И уже тогда были у него, как можно догадаться по письмам современников, эти мгновенные переходы к печали, иногда даже посреди безудержного веселья, так свойственного ему.
Потом узнают, что два таких разнородных обстоятельства — хромота и приступы тоски, — вдруг выплывающие из самой глубины, из детства, странным образом связаны между собой. Алексей Перовский был сыном екатерининского вельможи, могущественного и богатого сановника графа Разумовского, владевшего множеством имений со ста тысячами крепостных душ. Казалось, все открыто наследному принцу крепостной страны; но ведь он был незаконнорожденным; прошло много лет, пока отцу удалось снять с него тяжкое клеймо.
Отец любил сына, но выпадали, вероятно, даже не часы, а недели и месяцы, когда мальчик чувствовал себя обреченным на презрение.
Неограниченная власть калечит человека, владеть тысячами людей, их судьбами и жизнями — что может быть страшнее такой власти. .. Графа Разумовского порой охватывали порывы неудержимого гнева.
Сохранилось семейное предание, что как-то, может быть во время обычной вспышки ярости, он сослал Алешу Перовского с глаз долой в закрытый пансионат.
Отыщем в сказке его о черной курице и подземных жителях такие строки: «... Когда наставала суббота и все товарищи... спешили домой к родным, тогда Алеша горько чувствовал свое одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, И тогда единственным утешением его было чтение книг...»
И еще было у Алеши утешение: стоять у высокого деревянного забора, сколоченного из барочных досок, и ждать, ждать неизвестно чего.
Это писатель рассказывал не о себе, а о герое сказки, но каждая истинно прекрасная сказка вбирает в себя частицу жизни автора; сквозь волшебства проступает пережитое.
Семейное предание утверждает, что Алеша Перовский бежал из пансионата. Бежал, должно быть, в минуту, когда пансионат показался хуже тюрьмы.
Памятью о побеге осталась на всю жизнь и хромота. Может быть, он забрался на забор и упал, так говорит семейное предание. Памятью о побеге, о детском одиночестве остались неожиданные приступы тоски. И печальная нежность к детям.
Кажется, самой большой любовью — не угасшей до смерти — была любовь к племяннику, тезке — Алеше. Тот тоже жил в пансионате на окраине Петербурга. Любимым его развлечением тоже было смотреть в круглые дырочки забора, ограждавшего пансионатский двор.
«Алеша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, которыми прежде сколочены были барки, и ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки, — рассказывает Погорельский в сказке о черной курице. — Он все ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игрушку, или талисман, или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но, к крайнему его сожалению, не являлся никто даже похожий на волшебницу».
Сказка возникла вначале единственно, чтобы рассеять одиночество племянника, а осталась навсегда памятником любви; любовь была такой сильной, что сказка не только обрадовала Алешу, но приходит и ко всем нам, рассеивая и наше одиночество. Антоний Погорельский был «детским человеком». «Я из страны детства», — через много лет скажет Антуан де Сент-Экзюпери. Им-то, детским людям, и суждено писать сказки; тем, у кого и собственное сердце замирает то страхом, то счастьем от волшебных событий, возникших в воображении.
От детства у Перовского осталось стремление к веселому, а подчас и злому озорству, будто запас его не был израсходован в ранние годы; но если и злому, то всегда справедливому.
...Антон Антонович Антонский был естественником, читал в Московском университете лекции по энциклопедии естественной истории, причем впервые на русском языке, а не на латинском, как его предшественники.
Интересовали Антонского история наук и педагогика; статьи его «О начале и успехах наук, в особенности естественной истории» и «О воспитании», теперь всеми забытые, в свое время ставились в пример чистоты слога.
Но постепенно в деятельности его научные занятия отступали на второй план, оттесняемые поприщем административным.
Антонский становится директором Благородного пансиона при университете, деканом физико-математического факультета, ректором университета, цензором книг, печатавшихся в университетской типографии, членом цензурного комитета и, наконец, председателем Общества любителей российской словесности.
Последнее могло показаться странным не одному Перовскому, тем более что председательствование это началось еще при жизни Державина и захватило эпоху расцвета литературной славы Пушкина.
Могло представляться, что почетной должностью Антонский обязан не своим литературным начинаниям, а цензорской бдительности. Так возник замысел подшутить над Антонским.
Перовский сочинил длинную amphigouri, как называют французы веселую стихотворную чепуху; начиналась она бессмысленными строками:
Абдул-визирь
На лбу пузырь
И холит и лелеет;
А Папий сын,
Взяв апельсин,
Желаньем пламенеет..
Он переписал эту чепуху прекрасным почерком с рисованными заглавными буквами, пришел со своим сочинением к Антонскому и заявил о твердом желании обрадовать им любителей российской словесности на очередном заседании общества.
Помните знаменитый диалог Гамлета и Полония?
— Видите вы вон то облако в форме верблюда? — спрашивает Гамлет царедворца.
— Ей-богу, вижу, и действительно, ни дать ни взять — верблюд, — отвечает Полоний.
— По-моему, оно смахивает на хорька.
— Правильно: спина хорьковая.
— Или как у кита.
— Совершенно как у кита...
Что думал Антонский, читая абракадабру Перовского и порой поднимая взгляд на похолодевшее, не обещающее ничего хорошего лицо юноши.
Перед ним — сын грозного графа Разумовского, в то время министра народного просвещения.
«Сын графа... а стихи... Так ведь не очень давно Тредиаковский писал: «Екатерина-о поехала в Царское Село», и одобряли. А потом в моду вошел язык торжественный, как у Николева, а потом Пушкин стал писать простонародным слогом. А потом... Может быть, самое современное — «Абдул-визирь на лбу пузырь...»?»
Да, доброта Перовского-Погорельского, о которой единодушно говорят друзья его, особенно друзья из пушкинского кружка, и прежде всего сам Александр Сергеевич Пушкин, была вовсе не безразличной, изливающейся на всех. Она дарилась только людям, достойным любви; но тогда уж какой щедрой была она.
В повести «Гробовщик» Пушкин писал об одном из героев, будочнике Юрко: «Лет двадцать пять служил он... как почталион Погорельского».
Современниками простые эти слова, вероятно, прочитывались с благодарной и удивленной улыбкой, потому что напоминали о главной черте Перовского — этой его силе год за годом, ни на йоту не теряя непосредственности чувства, следить за судьбами сотен людей сердцем, глазами, а если не достигали глаза — письмами.
В 1820 году Пушкин, юноша, только недавно оставивший царскосельские сени Лицея, опубликовал «Руслана и Людмилу». Событие это, историческое для нашей литературы, у современников вызвало отзывы далеко не единодушные. Пушкина обвиняли в нестройности, разностильности, даже в безнравственности его творения.
Журнал «Вестник Европы» счел вообще «нелепой» попытку ввести в высокую литературу сказки и песни народные, по мнению журнала, такие «бедные», что если мы и сберегаем их, то только как всякую иную старину, например «старинные монеты, даже самые безобразные».
Молодому поэту печатно задавали десятки едких вопросов.
«Некто взял на себя труд отвечать на оные. Его антикритика остроумна и забавна», — писал Пушкин в предисловии ко второму изданию «Руслана и Людмилы».
Этот «некто» был Алексей Алексеевич Перовский, еще не напечатавший в ту пору ни одного своего сочинения.
Не раздумывая он ринулся в литературный бой.
Перовский отвечает на вопросы, совсем как сказочные герои отвечают высушенным, злым сказочным «мудрецам», мягким юмором рассеивая тупую схоластику.
Зачем Финн рассказывал Руслану свою историю? Затем, чтобы он знал, кто Финн; притом старики словоохотливы. Зачем Руслан присвистывает? Дурная привычка. Или: свистали вместо того, чтобы погонять лошадь английским хлыстиком. Зачем трус Фарлаф поехал искать Людмилу? Трусы часто ездят туда же, куда и храбрые. Зачем Карла приходил к Людмиле? Как хозяин с визитом. Как Людмиле вздумалось надеть шапку? С испугу, как справедливо заметил и вопрошатель. Как Руслан бросил Рогдая в воду, как ребенка? Прочитайте в поэме.
И Пушкину Перовский скоро становится очень близок.
В 1825 году публикуется фантастическая повесть Перовского — Антония Погорельского «Лафертовская маковница», а через три года выходит новая его книга — «Двойник, или Мои вечера в Малороссии».
Талантливые произведения эти — как бы предчувствие и гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и пушкинской прозы, тогда еще не явившихся.
В «Лафертовской маковнице» реальный быт, мастерски запечатленный, чудесно переплетается с миром фантастическим — как в гоф-мановском «Щелкунчике», как в сказках Андерсена.
Старуха, знающаяся с загробной нечистью, ведьма, гадает племяннице Машеньке, милой и доброй девушке, что суждено ей выйти замуж за того, кто сейчас привидится; пока идет гаданье, черный старухин кот на глазах у девушки, к ужасу ее, превращается в чиновника в мундирном сюртуке.
Старуха умирает, но вскоре к Машеньке является свататься титулярный советник Мурлыкин, в котором она узнает старухиного черного кота.
Пушкина рассказ привел в восторг.
«Душа моя, что за прелесть бабушкин кот! я перечел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Трифоном Фалелеичем Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмуря глаза, повертывая голову и выгибая спину», — писал Пушкин брату Льву Сергеевичу.
Перовского заботят люди талантливые и ранимые. Карл Брюллов — один из величайших живописцев России. Но он так мало работает. Перовский, превратив свою квартиру в мастерскую художника, приглашает Брюллова и запирает у себя.
Пушкин писал об этом из Москвы жене: «Здесь Перовский его было заполонил; перевез к себе, запер под ключ и заставил работать. Брюллов насилу от него удрал».
«Ведь это гений, как же допустить, чтобы его жизнь растратилась по-пустому!» — думал Перовский о художнике.
После смешного и трогательного пленения Брюллова Пушкин был у Перовского и потом писал Наталии Николаевне: «Перовский показывал мне Взятие Рима Гензериком (которое стоит Последнего дня Помпеи), приговаривая: заметь, как прекрасно подлец этот нарисовал этого всадника, мошенник такой. Как он умел, эта свинья, выразить свбю канальскую, гениальную мысль, мерзавец он, бестия. Как нарисовал он эту группу, пьяница он, мошенник. Умора».
Удивительно передал Пушкин негодующую восторженность и нежность Перовского, переполняющую душу, настолько целомудренную и застенчивую, что она должна прикрываться внешней грубостью.

Всегда рядом.
|
| |
| |
| Lita | Дата: Суббота, 01.10.2011, 15:40 | Сообщение # 12 |
 Друг
Группа: Администраторы
Сообщений: 9620
Награды: 179
Репутация: 195
Статус: Offline
| ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ
Но вот окончены или до времени отложены дела со взрослыми, и Алексей Перовский едет на Васильевский остров к племяннику Алеше, истосковавшемуся в одиночестве.
Остался позади Невский проспект с нарядными прохожими и праздничными витринами лавок, потемнело, попустынело вокруг. Окраинный Петербург двадцатых годов девятнадцатого века.
«...Нигде ни души; сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки». Улица «перерезывалась... бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею» — так описывал тогдашний Петербург Гоголь.
Холодный город, построенный на болотах.
«Тогда на проспектах Васильевского острова не было веселых тенистых аллей, — вспомнит в своей сказке Погорельский. — Деревянные подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров... Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее...»
Сани спешат к пансионату — дому о двух этажах, крытому голландскими черепицами, — и в сказку. Вечерние тени скользят рядом, и представляется, что это феи, гномы.
Вообще-то, как известно всем на свете, гномы обитают за тридевять земель и тридесять морей, в некотором царстве, некотором государстве, или, как говорят немецкие сказочники, за семью горами и семью долами, — словом, страшно далеко.
Но почему бы им не переселиться поближе в самый этот промерзший город, где они, с их лаской и волшебническим даром, так нужны Алеше; Перовский ведь чувствует, как в мальчике созревает душа поэта. Предчувствие не обманывает его: Алеша, Алексей Константинович Толстой, когда вырос, стал одним из выдающихся писателей России.
Известно, что в сказку проникают только существа сказочные, но почему бы не привести туда Алешу? Обыкновенный мальчик? Но так ли непреодолимо расстояние от обыкновенного до необыкновенного.
... Через полстолетия другой великий сказочник, Чарльз Доджсон, известный миру под псевдонимом Льюис Кэрролл, возьмет за руку девочку Алису, маленькую свою подружку, которой он отдал сердце, как Перовский Алеше, и поведет ее в страну чудес — вначале в одну, а потом в другую, именуемую Зазеркальем.
Так рядом с волшебными феями и волшебными принцами в мире появятся живые феи. Что ж, мы уже знаем, что феи переходят из сказки в обычную жизнь и из обычной жизни в сказку, не меняясь, как мы переходим улицу.
Феи и принцы — наши современники... Мчатся сани Перовского. И начинает казаться, что вовсе не тени от редких керосиновых фонарей, от луны скользят по снегу, а мчатся гномы.
Полки гномов, войска гномов идут на выручку обделенным счастьем.
Не тени... Это просвечивают сквозь землю, сквозь каменные мостовые и снег огни факелов, которыми гномы освещают неведомые подземелья. Опасная дорога. Крысы, свирепые, беспощадные, извека владеющие подземным царством, преграждают путь.
Предводитель авангарда гномов врубается в крысиный строй. Кто он такой? Почему черты его кажутся знакомыми?
На пансионатском дворе ходят куры. Когда в каникулярные дни пансионат пустеет, Алеша проводит с ними долгие часы, даже беседует — больше ведь не с кем.
Особенно нежно привязан он к Чернушке. Она не несет яиц и предназначена попасть в бульон. Сколько раз гналась за ней с ножом пансионатекая кухарка, и мальчик всякими хитростями спасал Чернушку.
Однажды он выкупил ее жизнь, отдав кухарке Тринущке главное достояние — золотую монету империал. Чернушка Отвечала Алеше преданностью и ходила за ним по двору как собачка. Перовский знал об этой дружбе мальчика и курицы.
Теперь в воображении Перовского Чернушка превратилась в воина короля гномов,
— Пусть хоть тысяча французов! — бормочет он под скрип саней любимую присказку.
Штаб-ротмистр Чернушка... Сказка впитывает реальные события, как земля влагу.
Чернушка прокрадывается ночью в опустевший на время зимних каникул дортуар. Превратившись в маленького человечка, она ведет мальчика в подземное царство гномов.
В богато украшенном зале появляется король гномов; двадцать маленьких пажей в пунцовых платьях несут шлейф роскошной королевской мантии.
— Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти. Ты оказал великую услугу моему народу и за то заслуживаешь награду, — сказал король. — Чего ты желаешь?
Оказывается, Чернушка даже и не обычный маленький человечек, а главный министр.
Людям, которые ценят лишь то, что можно съесть, купить и продать, — Чернушка представлялась курицей, достойной смерти, потому что не несла яиц, а оказывается... Вот и стихи, как сказал поэт, их «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать» — никакой корысти... только без них нельзя жить.
И детство — время, когда человек еще не умеет делать ничего полезного, поэтому некоторым ребенок кажется получеловеком; но как низок такой взгляд на детство.
Чернушка не приносит пользы, но она рискует жизнью, чтобы рассеивать горести и печали детей. Маленькие человечки не по чему иному пришли в подземелья города, грозного и неласкового, из-за тридевятьземельных стран, не по чему иному, а чтобы помогать людям. Даже ценой жизни.
... Какое же желание загадать?
«Если б дали ему более времени, — говорит сказочник об Алеше, — то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое; но так как ему казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил ответом.
— Я бы желал, — сказал он, — чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой мне ни задали.
— Не думал я, что ты такой ленивец, — отвечал король, покачав головою. — Но делать нечего: я должен исполнить свое обещание.
Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко». Это драгоценный дар — волшебное семечко, наделенное силой осуществлять все желания.
Только одно условие, приняв подарок, должен выполнить мальчик: никому, никогда, ни за что на свете не выдавать тайны существования королевства гномов — тут, в подземельях Петербурга.
Одно условие, сберегающее силу волшебства, есть в каждой сказке: не лги ни маленькой, ни большой ложью, не предавай. Если выдать гномов, им придется бросить все и отправиться в обратную дорогу, трудную и опасную: к себе, туда — в некоторое царство, некоторое государство.
Мальчик без труда отвечает уроки при помощи конопляного зернышка. Волшебство возвысило его, но необычайные успехи вызывают подозрение у ребят и учителей. Под угрозой порки Алеша выдает тайну подземных жителей. И что же?.. Гномы уходят. Опять крысы овладели подземельями. Министр Чернушка закован в кандалы. Ведь он поверил мальчику, и такой тяжелой ценой народ гномов расплачивается за доверчивость.
Мудрая сказка, одна из главных тем которой — цена предательства. Алеша Толстой не забудет ее. Гномы в сказке противостоят жестокости пансионатских наставников; учителя вооружены розгами, но того, кто устрашился наказания, сказка не оправдывает. Герои сказок храбрецы, а не трусы.
Став писателем, Алексей Константинович Толстой напишет трагедию «Смерть Иоанна Грозного» и выведет там образ Никиты Романовича Захарьина, ближнего боярина жестокого царя, который, один из царедворцев, говорит царю правду.
«Ой живет в эпоху Иоанна (Грозного), в такую эпоху, где злоупотребление властью, раболепство, отсутствие человеческого достоинства сделались нормальным состоянием общества. Но, несмотря на это, он в полном Смысле честный и прямой человек, готовый всегда идти на плаху скорее, чем покривить душой или Промолчать там, где совесть велит ему говорить» — так напишет А. К. Толстой о Захарьине.
Один?! Ну что ж, если один. В некой древней стране, рассказывает легенда, существовал закон: когда осужденного вели на казнь, если даже один человек крикнет, что приговор ошибочен, казнь отменяли и снова собирался суд. Один — это очень много. С совестью своей человек всегда один на один.
Мысли, внушенные сказками, растут вместе с человеком, но суть их остается прежней. Сказки помнятся до смерти или пока человек не изменил самому себе — ведь это тоже смерть.
Алексей Толстой не забудет и крыс из сказки, сочиненной для него Алексеем Алексеевичем Перовским. Главная сила и опасность крыс в их свирепой одинаковости, так же как волшебная сила гномов В Том, что все они разные; вот Чернушка — доверчив, он расплатился за сйою доверчивость, но счастье, что в государстве гномов был и такой министр.
В старой сказке Говорится, что некогда жил царь — сказочный, конечно, — и 6н повелел: человека, обвиненного в преступлении, можнй казнить, только если все двадцать три судьи — а это должны быть самые мудрые и достойные граждане, — если все они без исключения признают справедливой страшную кару.
— Но если — сказал еще этот царь, когда глашатаи огласили его повеление, — из двадцати трех судий ни один не увидит ни малейшей причины для смягчения наказания, приговор надо отменить, а суд распустить, потому что судьи были недостаточно добродетельны и мудры, раз судили так одинаково и беспощадно. Мудрость не бывает ни одинаковой, ни беспощадной! — провозгласил сказочный царь.
И глашатаи повторили его слова на всех площадях городов и селений древней страны.
Кем станет министр Чернушка, когда окончится срок наказания и оковы спадут? Может быть, он поймет, что главным призванием его было видеть людское горе, как он увидел горе Алеши, и рассказывать о нем. Если так, то он станет сказочником страны подземных гномов, каким был для России его создатель Антоний Погорельский.
«Мудрость не бывает ни одинаковой, ни беспощадной», — не устают повторять сказки.
Алеша, Алексей Константинович Толстой, вспомнит крыс в сказке
любимого своего наставника и подумает, может быть: а что, если бы эти крысы превратились в людей, какими стали бы такие люди? Вероятно, прежде всего они были бы совершенно одинаковыми — одинаково зло думающими обо всем и все одинаково видящими злыми крысиными глазками.
И, представив себе этих одинаковых людей, он вместе со своими друзьями, братьями Жемчужниковыми, создаст образ Козьмы Пруткова — служащего Пробирной Палатки, — тупого, ограниченного и самодовольного, обличающего «вред различия во взглядах и убеждениях».
Это чинуша, ненавидящий самостоятельно мыслящих людей, как крысы ненавидели гномов, образ внешне смешной, а по существу один из самых гневных в литературе, боровшейся против самодержавия.
... Сказки — что может быть вечнее; в том-то и чудо сказки, что образы ее живут и живут, все по-новому перевоплощаясь в умах и душах, но бережно сохраняя главную свою нравственную суть.

Всегда рядом.
|
| |
| |
| Lita | Дата: Суббота, 01.10.2011, 15:46 | Сообщение # 13 |
 Друг
Группа: Администраторы
Сообщений: 9620
Награды: 179
Репутация: 195
Статус: Offline
| «СВЕТА... СВЕТА...»
«Черная курица, или Подземные жители» — единственная сказка Погорельского. Единственная, но такая, что навсегда осталась словно ребенком, сверстницей детей всех поколений, как «Аленький цветочек» Аксакова, как «Конек-горбунок» Ершова.
Всегдашняя ее юность коренится, вероятно, в том, что сказка эта связана с самым вечным в мире — с мечтой о победе над злом.
И связана с природой.
Живое — звери, растения — всегда близко Перовскому. В университете он со страстью занимался ботаникой. В своем имений Погорельцы насадил замечательный сад. В зверях и растениях он видел человеческое: недаром курица Чернушка стала его героиней.
Ему кажется, что человек чем-то виноват перед деревьями и зверями, как и перед детьми. Перед детьми виноват тем, что не всегда уважает их человеческое достоинство, перед природой тем, что относится к ней корыстно.
В одной из новелл Антоний Погорельский рассказывает историю человека, которого где-то в Австралии воспитала и вынянчила обезьяна; и вот человек, став взрослым, по прихоти невесты убивает зверя, совершает преступление против закона верности. Эта новелла — тоже сказка, как сказки — рассказы Аксакова о природе.
Погорельский расстался со сказкой, а мы скоро расстанемся с ним. Остается сообщить совсем немногое из отрывочного и неполного, что известно об этом писателе.
В 1830 году появляется первая, а затем вторая часть романа «Монастырка». Произведение это встречается дружественно, особенно критиками пушкинского направления. Современники зачитываются романом, как в последующие времена зачитывались «Анной Карениной» Льва Толстого. О значении «Монастырки» историк литературы В. Горленко писал:
«Монастырка» была одним из первых произведений, в котором хотя несколько отразилась действительная жизнь, где после невероятных Эрастов и Лиз мелькнули живые лица, одновременно с тем, как при живом свете поэзии Пушкина в область теней бежали бледные призраки доморощенных Ленор и Светлан».
После «Монастырки» Погорельский больше ничего не публикует.
Чем объяснить краткость его литературного пути?
Может быть, тем, что уже появилась проза Пушкина и Гоголя, в ясном свете которой мелькнувшие было «живые лица» созданий Погорельского сами отступили в «область теней».
Но ведь это происходило во «взрослой» литературе, почему же писатель не вернулся к сказке, где голос его прозвучал так проникновенно и чисто?
Не потому ли, что единственная его сказка была создана для любимого им Алеши Толстого; два таланта жили в Алексее Перовском — талант творческий и редчайший талант самоотверженной любви, — когда они соединились, и произошло чудо рождения сказки.
Алеша уже не нуждался в гномах. Мальчик покинул мир сказки, а вместе с ним покидал его и Перовский, как мать, вновь проходящая вместе с ребенком через главные этапы жизни.
Последние годы все свои силы Погорельский-Перовский посвящает воспитанию племянника.
В раннем уходе из литературы сказалось важное обстоятельство, многое определившее в судьбе не одного Погорельского, но и некоторых других замечательных писателей. Они не могли жить одной литературой. Им было необходимо идеи правды, добра и справедливости поверять реальным претворением их в жизнь. Поэтому Толстой столько сил отдает учительской работе в созданной им Яснополянской школе для сельских ребят; это была не прихоть гения, как казалось некоторым его современникам, а насущнейшая необходимость. Хемингуэй и Сент-Экзюпери воевали не для того, чтобы писать о войне, а писали потому, что воевали за справедливое дело; они продолжали борьбу и в книгах. Чехов лечил не для того, чтобы «собирать материал», а чтобы своими руками оттеснять страдание, чтобы больной человек становился здоровым и хоть на крупицу меньше стало беды.
Макаренко свою педагогическую поэму создавал сначала в реальной жизни. Януш Корчак до самой гибели оставался учителем и врачом. Сказка его о Матиуше возникала рядом с десятками горьких и радостных сказок реальной детской жизни. Наступает время, когда тот, кто пишет сказки, сам должен проверить свои силы в добром волшебстве.
Это и случилось с Перовским, когда он всецело отдался воспитанию любимого ребенка.
...В 1839 году Алексей Алексеевич Перовский тяжело заболел, поехал за границу, на юг, но не добрался до спасительного солнца и умер в пути.
В предсмертном бреду он повторял:
— Света... Света...

Всегда рядом.
|
| |
| |
| Lita | Дата: Суббота, 01.10.2011, 15:49 | Сообщение # 14 |
 Друг
Группа: Администраторы
Сообщений: 9620
Награды: 179
Репутация: 195
Статус: Offline
| Глава пятая
ТАЙНЫ СКАЗКИ
СКАЗКА И БУМАГА
Давным-давно в Кордове, одном из прекраснейших и самых просвещенных городов юга Испании, жило множество медиков, математиков, астрономов, философов и поэтов; был среди них и прославленный поэт, автор мудрого и светлого трактата о любви «Ожерелье голубки», Ибн Хазм. Город славился роскошными дворцами, садами, школами, библиотекой кордовского халифа, где было собрано четыреста тысяч книг, в том числе лучшие творения древнеримских и греческих авторов.
Но в одиннадцатом веке на процветающий город стали нападать враждующие отряды берберов, мусульман-арабов и христиан-испанцев. Они грабили дворцы, убивали и уводили в рабство жителей Кордовы.
В исступлении кровавой резни насильникам казалось, что мало истребить иноверцев, еще важнее уничтожить без следа мысли их. Тогда на площадях городов раскладывались костры из книг, огню предавались бесценные произведения искусства.
Глядя на еще тлеющий пепел, в который было превращено все, что он создал, поэт Ибн Хазм сказал:
Не говорите о том, что бумагу сожгли и пергамент.
Говорите о знаньях моих, чтобы люди суть уяснили.
Еще не исчезло, что было написано мною.
Сокровища мыслей в сознанье моем не спалили.. .
Иду — со мною они; стою — со мной безотлучно.
Бумага — только одно из пристанищ человеческой мысли и рожденных ею художественных произведений, притч и сказок в том числе. Они, притчи и сказки, как бы похожи на перелетных птиц: мысль, душа человеческая — их родина, место гнездовья, где они рождаются и выводят птенцов; книга — теплые страны, куда они улетают, набравшись сил. Но так, чтобы, когда не будет другого пристанища, вернуться обратно в гнездо.
... Притча рассказывает про мудреца, жившего тысячу, а может быть, и две тысячи лет назад.
Ученики и друзья говорили мудрецу:
— Главный жрец, и главный судья, и главный палач гневаются, что ты веришь не в то, во что верят они, и учишь не тому, чему они велят учить. Смотри — они сожгут тебя на костре, и вместе с тобой в огне исчезнет созданное тобой.
— Не бойтесь, дети мои, — спокойно отвечал мудрец, отрывая взгляд от пергамента, на котором он записывал то, чему научила его жизнь. — Пусть меня сожгут; мысли сжечь нельзя — письмена не горят!
Он снова принимался за работу, а ученики и друзья в сомнении покачивали головой. «Ох как наивны бывают самые мудрые мудрецы, — думали они. — Письмена не горят? Но даже ребенок знает, что бумагой и пергаментом лучше всего разжечь костер».
И наступил день, рассказывает притча — а может быть, это и не притча, а подлинная история, случившаяся некогда в действительности, — наступил день, когда к мудрецу пришли стражники и увели его в темницу. Суд приговорил его к сожжению на костре.
Когда мудреца вывели на площадь, завернутого в пергаменты его рукописей, и огонь жадно охватил красными своими языками пергаменты, один из учеников крикнул из толпы, окружавшей костер:
— Письмена горят! Ты учил ложно, старик! В ответ послышался голос мудреца:
— Горит пергамент, а буквы улетают!
Он крикнул это в последние мгновения, погибая страшной смертью на костре, а мы через тысячу или даже через две тысячи лет как бы слышим его слова.
Значит, это правда, что буквы не горят: они улетают из пламени, проскальзывают через колючую проволоку, по которой пропущен ток высокого напряжения, способный убить все живое.
Значит, они живее живого.
Они улетают, собираются в слова, а слова собираются в мысли — не обычные, а вечные мысли, — но не остаются в безопасной высоте, а спускаются к людям: ведь они для людей.
... Рассказывают в другой старинной притче, что давным-давно в маленьком нищем городке жил справедливый старик — врач и учитель. Когда кто-нибудь заболевал, старик приходил к больному и спасал его, если это было в силах человеческих. А когда рождался ребенок, первые самые важные слова он узнавал от учителя. И первые сказки слышал из его уст. Когда ребенок вырастал, учитель наставлял его, как надо жить, чтобы не превратиться в волка среди людей, а оставаться человеком; это ведь совсем не просто.
И когда кто-нибудь умирал, старик до конца бодрствовал у изголовья больного, утешал его, выслушивал последние слова. Умирающий знал, что дети его не останутся сиротами, то, что он не успел совершить, будет совершено, что старик возьмет на свои плечи груз и его забот.
Рассказывают в этой древней притче, будто, узнав о том, что на земле есть такой человек, бог призвал его к себе.
Когда старик появился перед ним, бог спросил:
— Скажи мне всю правду: хорошо ли живут люди на земле?
— Плохо! — ответил старик. — Богатые обижают бедных, судьи и тюремщики мучают и убивают ни в чем не повинных...
— Говори, говори!.. — торопил бог. — Ведь те, кто окружает меня здесь, на небе, скрывают правду. А только зная все, я смог бы спасти мир.
Старик хотел было продолжать бесконечную повесть о несправедливостях, творящихся на земле. Но в это время там далеко, в его городке, к старой, больной женщине приблизился смертный час. И, чувствуя это, она в отчаянии прошептала:
— Неужели я погибну, не услышав утешения, не передав внуков тому, кто один спасет их от нищеты, и не переложив на его плечи свои беды, единственное, чем так щедро одарила меня судьба.
Услышав ее шепот, старик сказал богу:
— Мне некогда говорить с тобой. Смерть не станет ждать. Мне надо торопиться к умирающей...
И он опустился с неба на землю, в нищий свой городок. В последний раз открыв глаза, умирающая увидела у изголовья лицо старика и услышала его голос:
— Я здесь, не бойся! Я поведу к свету твоих внуков, и меня не согнет твое горе. Спи спокойно!..
Женщина умерла, как уснула, с улыбкой на губах, в первый раз за длинную жизнь не чувствуя ужаса перед будущим.
«А мир не был спасен, бог не узнал правды» — такими грустными и насмешливыми словами оканчивается эта притча.
... Да, буквы не сгорают, они собираются в слова, в строки, в мысли, в притчи и сказки. И не остаются в холодной высоте, а спускаются к людям, как старик, торопившийся к умирающей. Ведь они созданы людьми и существуют для людей; так и старик был человеком и жил для людей.
Они спускаются вниз; как дождевые капли превращаются в соки деревьев и трав, они вместе со сказкой, с лаской матери войдут в сердце ребенка и сделают это сердце человеческим, то есть смелым, справедливым и добрым.

Всегда рядом.
|
| |
| |
| Lita | Дата: Суббота, 01.10.2011, 15:52 | Сообщение # 15 |
 Друг
Группа: Администраторы
Сообщений: 9620
Награды: 179
Репутация: 195
Статус: Offline
| ЧАСЫ СКАЗОЧНИКОВ
И тут, чтобы лучше понять дальнейшее, пришла пора подумать о часах сказочников. Недаром говорится: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Сказочное время совсем не то, что время обыкновенное.
У замечательного нашего сказочника Корнея Ивановича Чуковского было в саду сломанное дерево. Его давно собирались спилить, но Корней Иванович не разрешал, потому что на сломанном дереве, как хорошо знали дети окрестных деревень и поселков, чудесно было качаться.
Однажды к Корнею Ивановичу подошла девочка и попросила:
— Дедушка Корней! Можно, я покачаюсь на дереве?
— Качайся, Любочка! — ответил Корней Иванович, который, уж конечно, дружил со всеми детьми и каждого ребенка знал по имени.
Девочка покачалась и ушла.
Но скоро она вернулась и попросила, как в первый раз:
— Дедушка Корней! Можно, я покачаюсь на дереве?
— Качайся, Любочка! — сказал Корней Иванович. — Только ведь ты недавно качалась. Тебе не надоело?
— Я не была у тебя, — ответила девочка. — И я не Люба. Это моя мама Любовь Ивановна, а я — Таня.
Да, у сказочников иные часы. И иные часы у сказки, этого нельзя забывать; «тик-так...» — проговорят они, а оглянешься, и оказывается, что по обычному человеческому счету прошли столетия.

Всегда рядом.
|
| |
| |